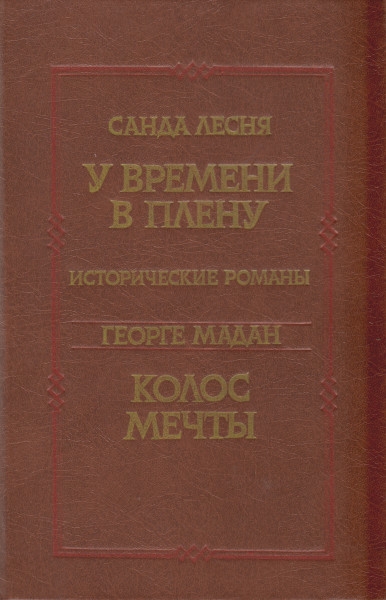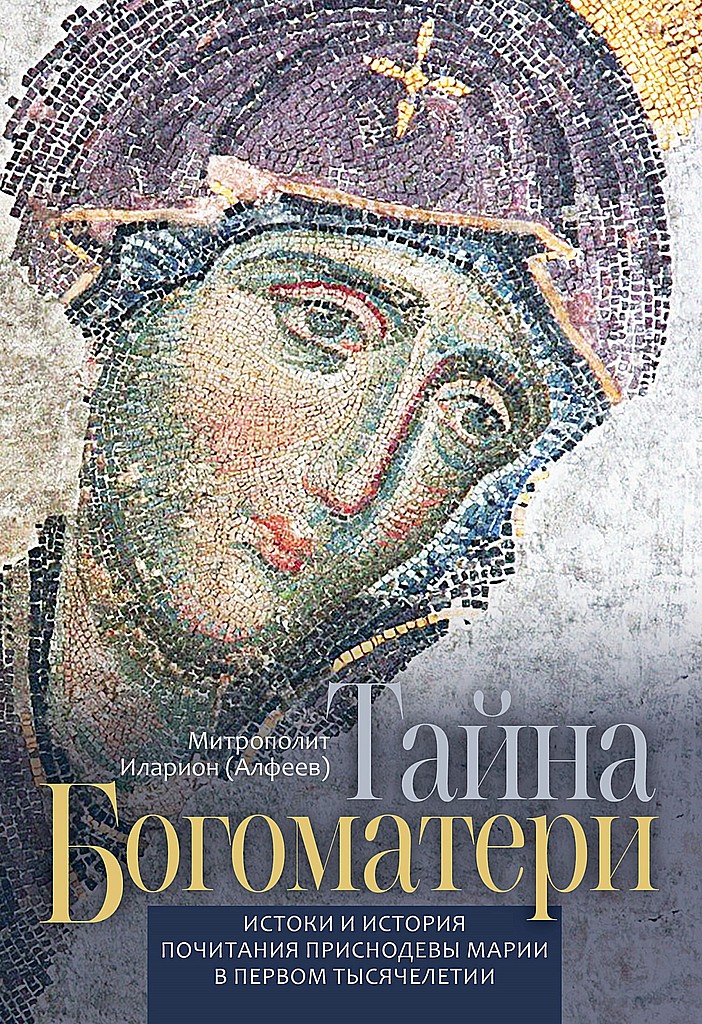Шрифт:
Закладка:
У времени в плену. Колос мечты – это сборник исторических романов и новелл, посвященных Молдавии в XVII веке. Автор книги – Санда Лесня – известный молдавский писатель и историк.
В сборник входят два романа: «У времени в плену» Санды Лесни и «Колос мечты» Георге Мадана, а также две новеллы Георге Мадана: «Свет теней» и «Крещение». В этих произведениях авторы рассказывают о жизни и деятельности выдающихся личностей молдавской истории, таких как Василе Лупу, Дмитрий Кантемир, Стефан Чели Маре и другие. Они показывают, как эти люди боролись за свободу и независимость своего народа, защищали православную веру, развивали науку и культуру.
Книга Санды Лесни – это увлекательное путешествие по страницам молдавской истории, ее славы и трагедии, ее героизма и мудрости. Она адресована всем, кто интересуется прошлым своей родины и хочет узнать больше о ее духовном наследии.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com или скачать ее в удобном формате. Не откладывайте свое любопытство и интерес к истории – начните читать «У времени в плену. Колос мечты» уже сегодня!