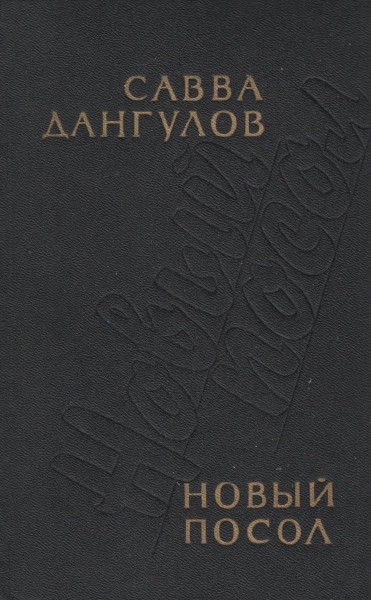Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Миролюбивая внешняя политика Советского Союза, борьба за осуществление ленинских принципов сосуществования государств с разным социальным строем — главная тема книги С. Дангулова. Ей посвящены рассказы «Из дневника атташе» и «Новый посол», повести «Владыка», «Купцы» и «Первый дождь».Другую часть книги составили рассказы о дне нынешнем и грядущем отчего для писателя степного Кавказа.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Савва Артемьевич Дангулов»: