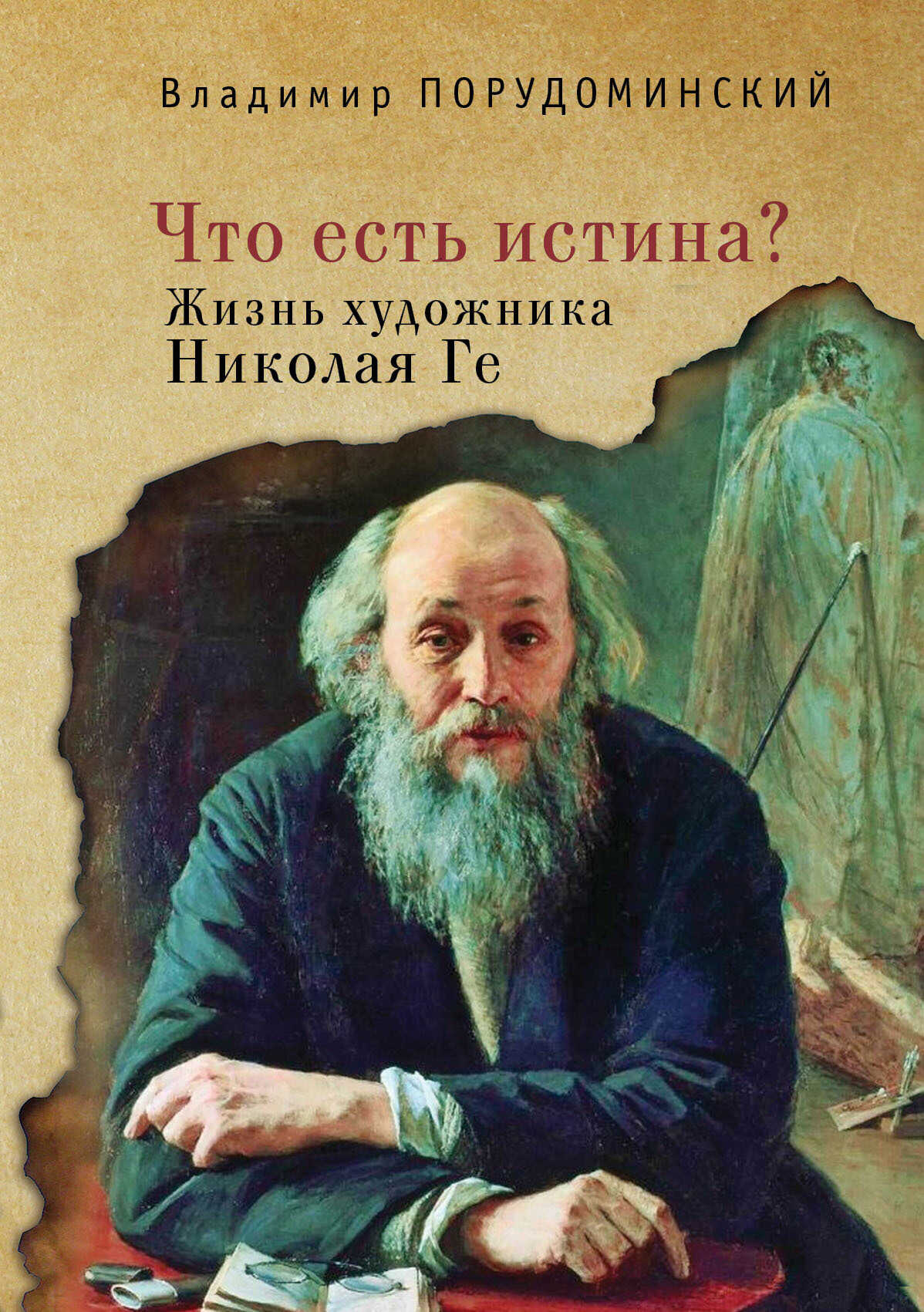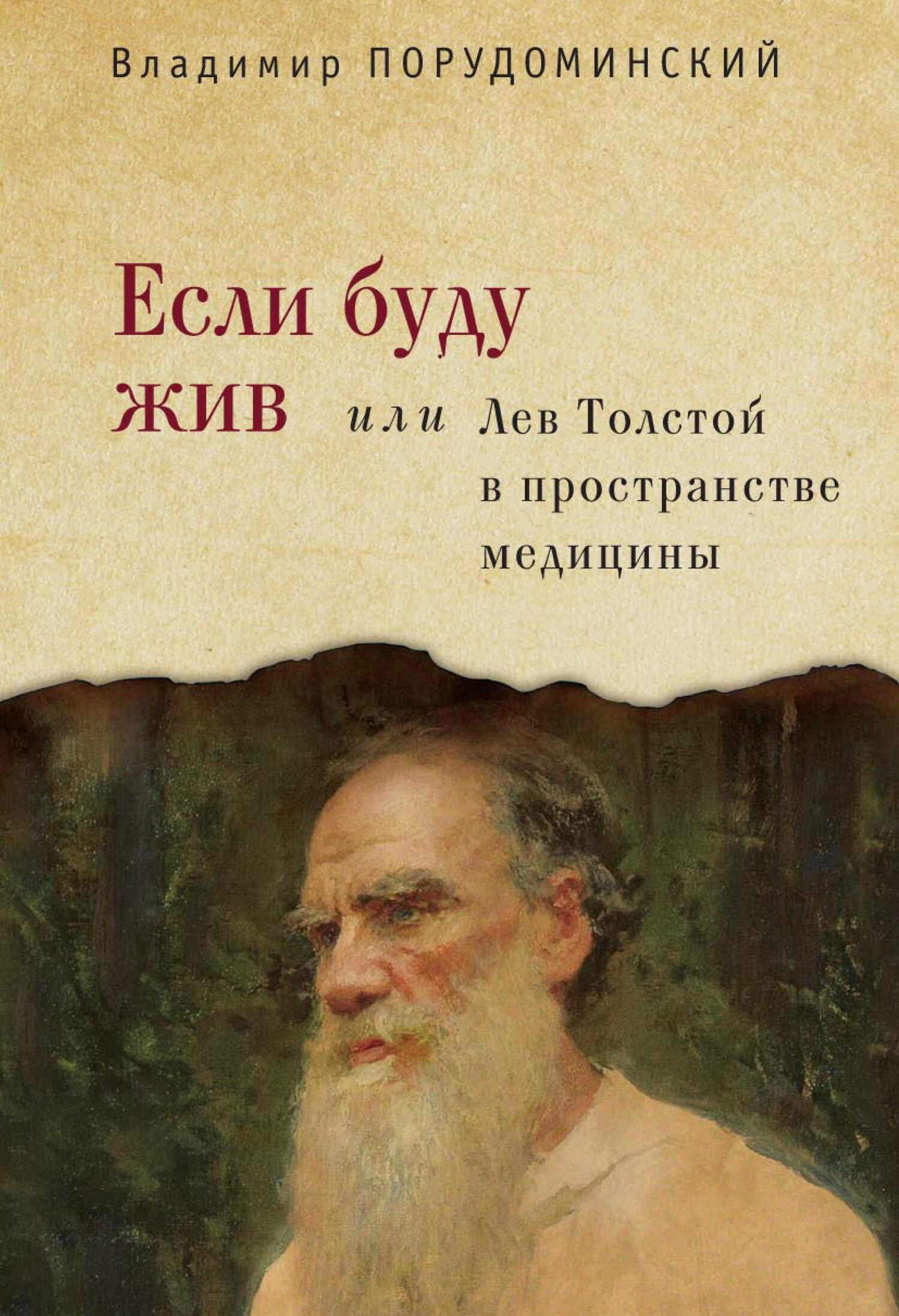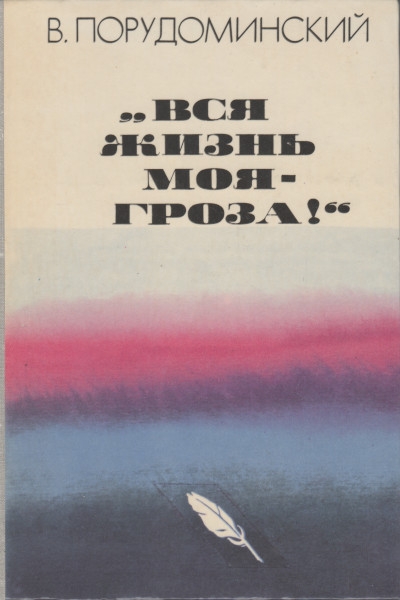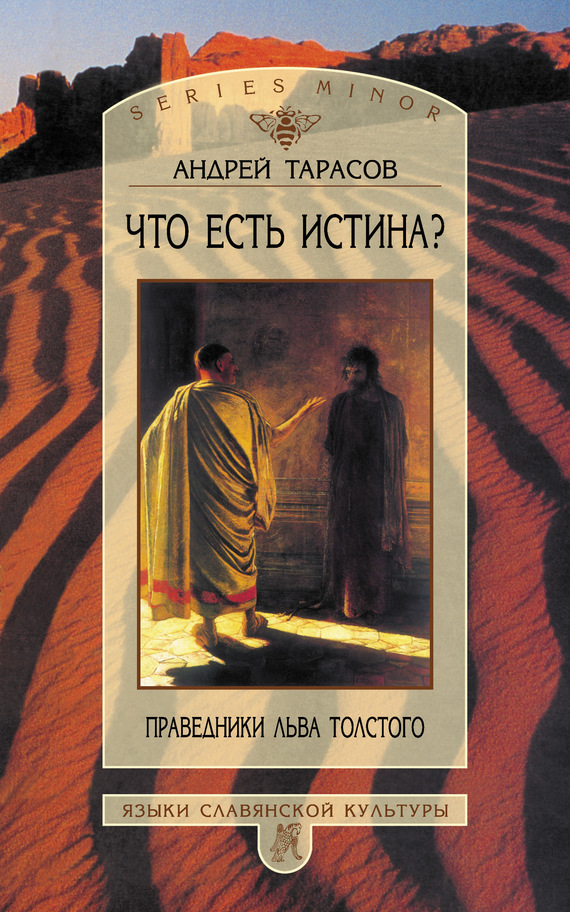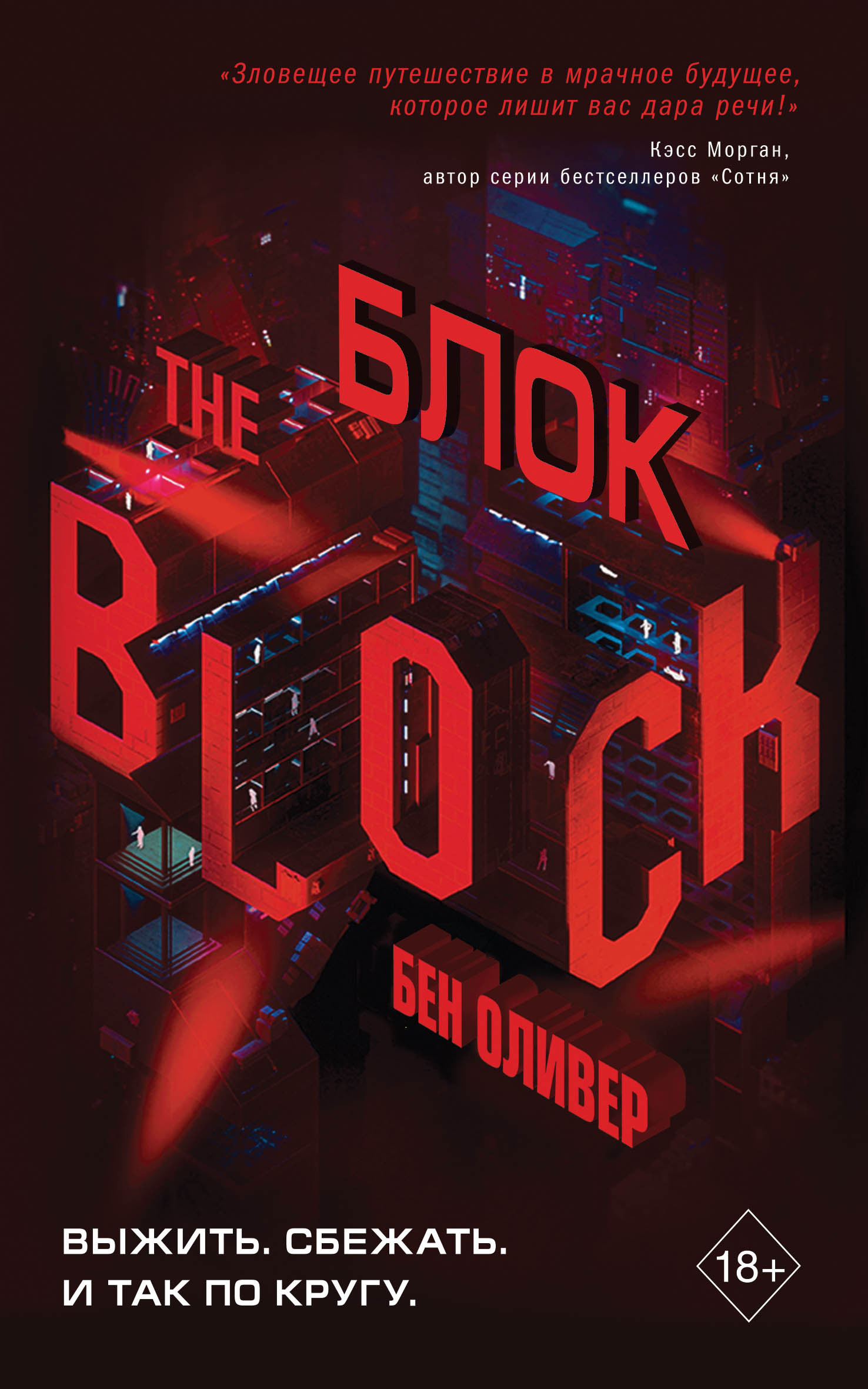Шрифт:
Закладка:
Это книга писателя-биографа – не врача, книга не столько о медицине – о всей жизни Льва Толстого, от рождения «в Ясной Поляне на кожаном диване» до последних минут на прежде мало кому ведомой железнодорожной станции, по прибытии на которую, он, всемирно известный, объявил себя «пассажиром поезда № 12». Книга о счастливых и горестных днях его жизни, о его работе, духовных исканиях, любви, семье… И – о медицине. В литературном творчестве, в глубоких раздумьях о мире в себе и мире вокруг, в повседневной жизни Лев Толстой проницательно исследовал непременные, подчас весьма сложные связи духовного и телесного начала в каждом человеке. Обгоняя представления своего времени, он никогда не отторгал одно от другого, наоборот, постоянно искал новые и новые сопряжения «диалектики души» и «диалектики тела». Его слова «Лечим симптомы болезни, и это главное препятствие лечению самой болезни» – это слова сегодняшней медицины, психологии, социологии, философии. Отношение Толстого к медицине, нередко насмешливо критическое, жесткое, можно вполне понять и оценить, лишь учитывая всю систему его взглядов. Художник Крамской, создавший первый живописный портрет Льва Толстого, говорил, что никогда прежде не встречал человека, «у которого все детальные суждения соединены с общими положениями, как радиусы с центром». Читателю предстоит как бы заново познакомиться с биографией Толстого, по-новому увидеть многое в ней, что казалось хорошо известным.