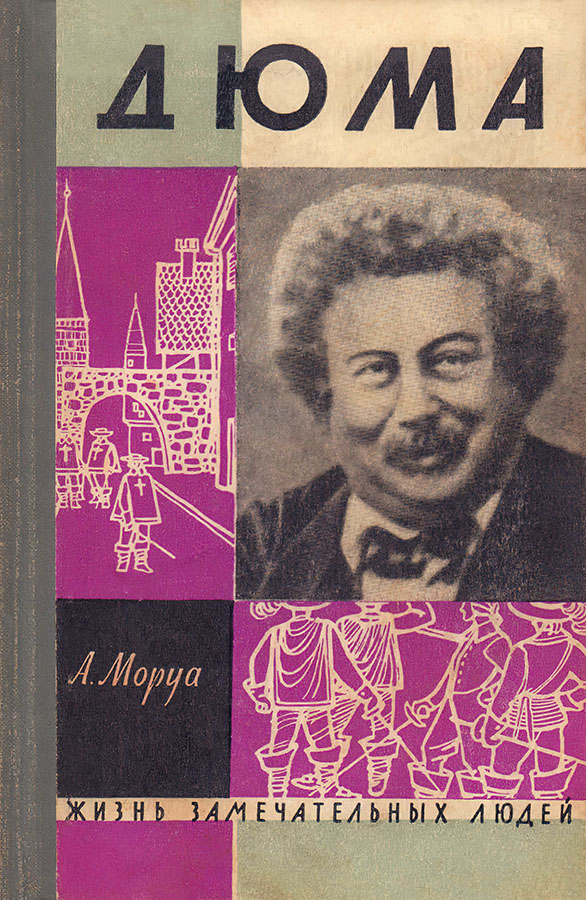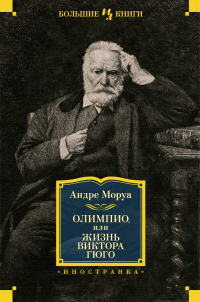Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Имя Дюма-отца, автора великих историко-приключенческих романов, известно всему миру. Дюма-сын запомнился читателям как автор нескольких по сей день не сходящих со сцены пьес и романа «Дама с камелиями». И лишь знатоки военной истории помнят имя Дюма-деда — легендарного боевого генерала, человека трудной и яркой судьбы. Какова же была преемственность поколений в этой знаменитой семье? Что объединяло столь разных людей? Об этом и о многом другом повествует Андре Моруа в романе-биографии «Три Дюма». Подготовлено по изданию ЖЗЛ 1962 года.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрэ Моруа»: