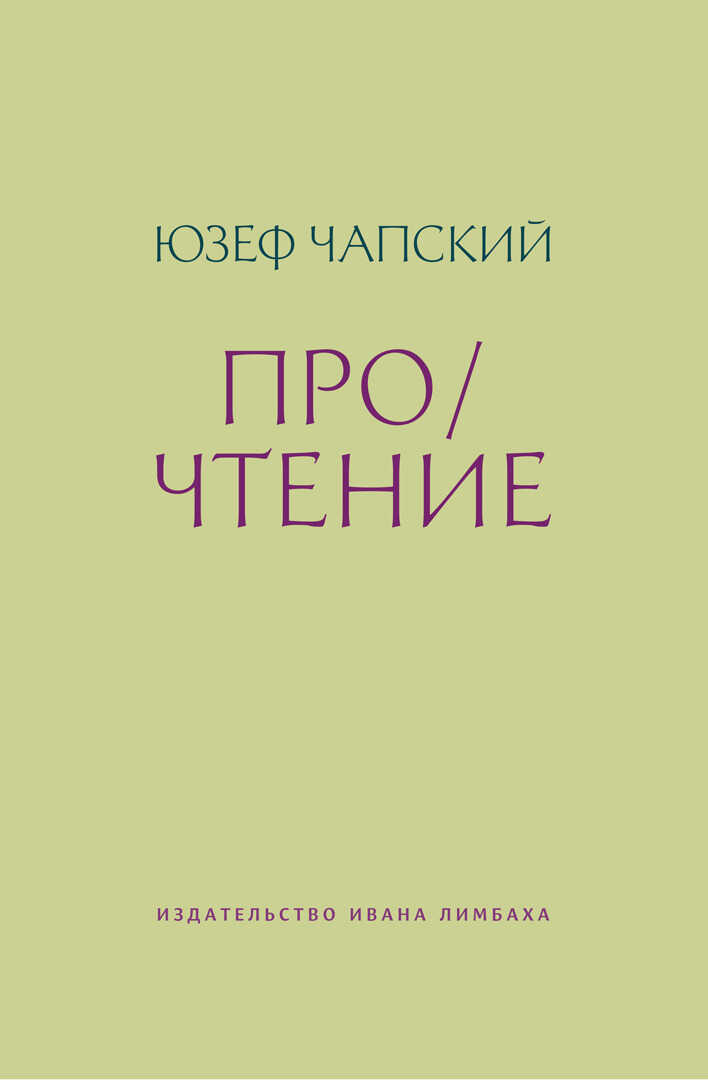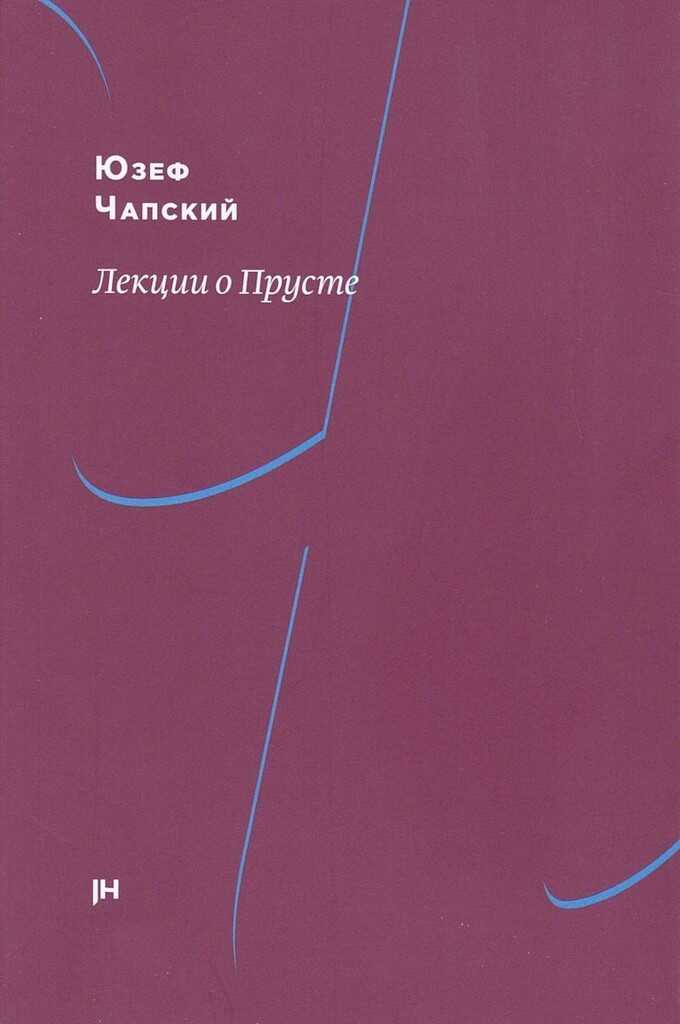Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Юзеф Чапский (1897–1993) — одна из ключевых гуманистических фигур XX века. В России он известен прежде всего как первый расследователь катынского преступления советских властей, автор книг «Старобельские воспоминания» и «На бесчеловечной земле». Каждое слово его «Лекций о Прусте», прочитанных по-французски в советском лагере для польских военнопленных, двулико. Один лик смотрит в сторону прекрасной парижской молодости польского художника и писателя. Другой — на «бесчеловечную землю», забравшую жизни тысяч его соплеменников и товарищей по оружию.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юзеф Чапский»: