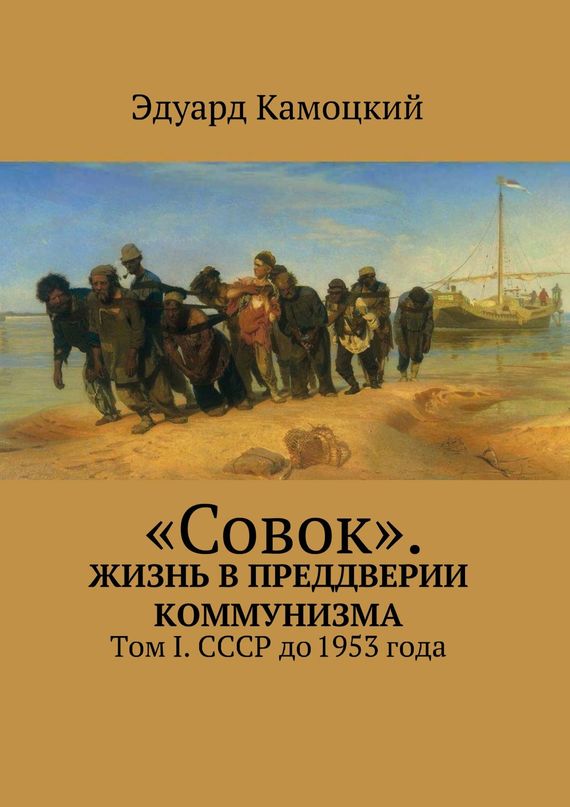Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Я попал между жерновами истории, когда в XX веке перемалывался весь мир и разразилась Великая Российская революция. Образование Союза Советских Социалистических Республик было Великим Экспериментом в истории человечества. Я оказался современником этого эксперимента – ни моя заслуга, ни моя вина, так уж получилось. Таких, как я, журналисты окрестили совками, и эти очерки – почти дневниковое повествование совка. Повествование состоит из 9 частей в трех книгах.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эдуард Камоцкий»: