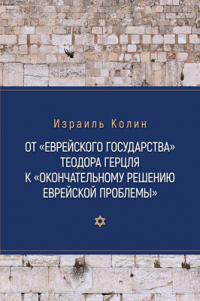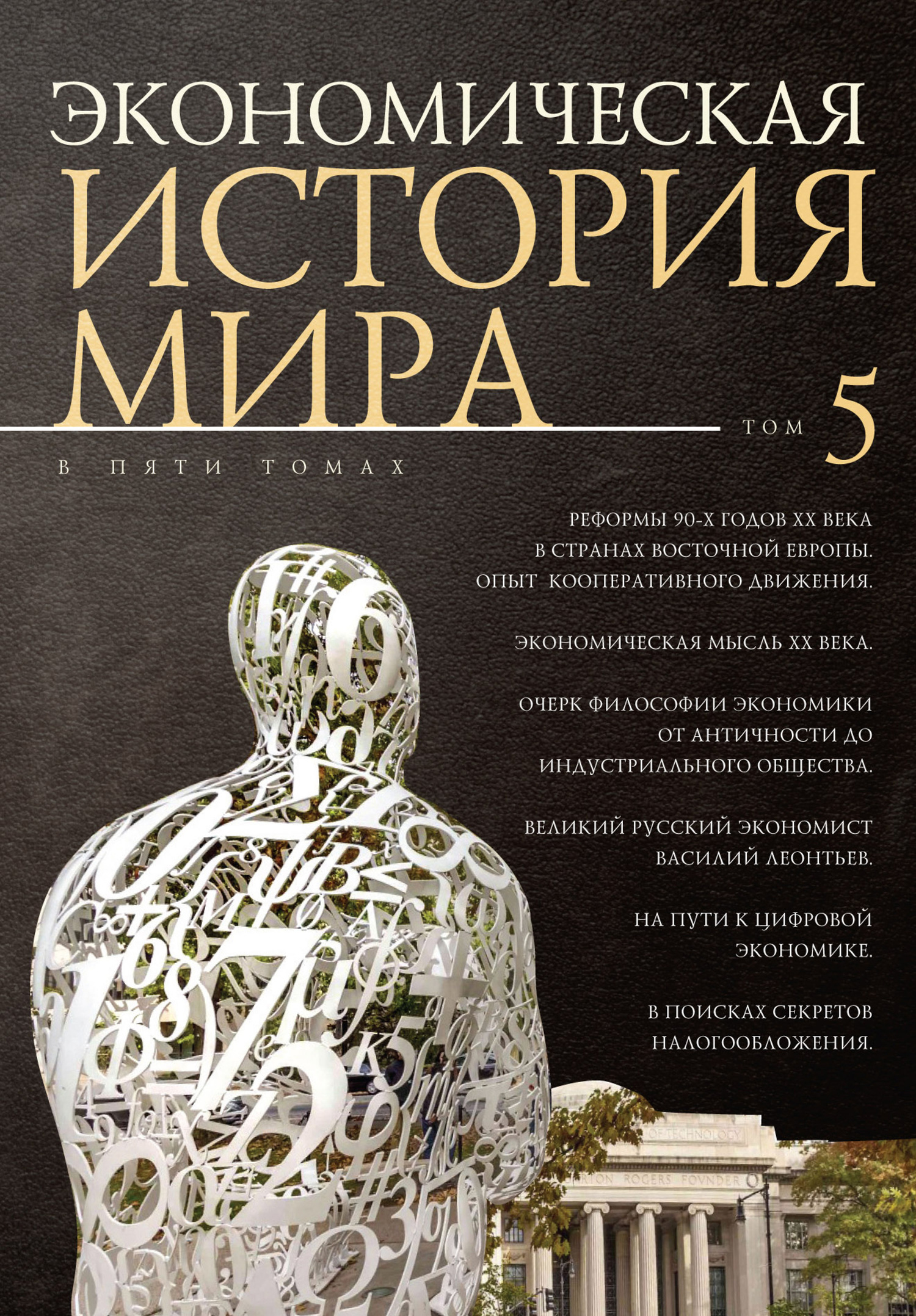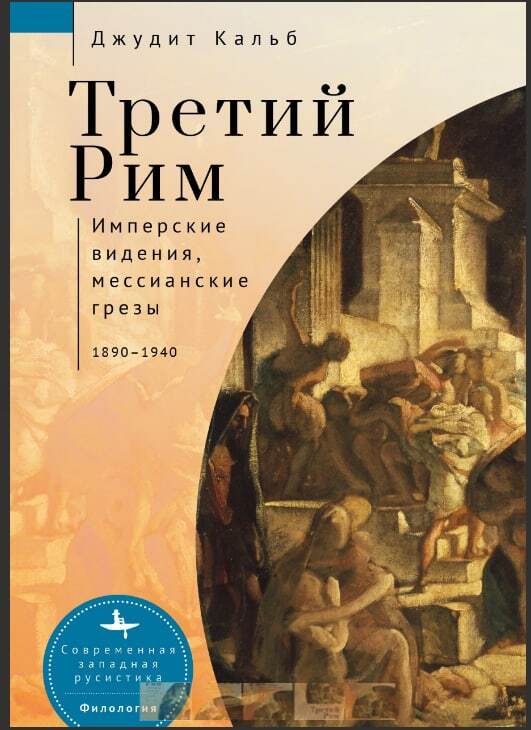Шрифт:
Закладка:
Такая трансформация, с необходимостью подразумевавшая отказ от идеалов второй и третьей алий, не могла не повлечь за собой внутренний кризис. Возникло множество вопросов. В чем на самом деле заключался смысл существования «Мапаи»? Какова была ее политическая ориентация? Чем она отличалась от других политических партий? И наконец, что может привлечь к ней молодое поколение? При всей своей неприязни к догматическому социализму члены «Хапоэль Хацаир» и такие лидеры, как Берл Кацнельсон, едва ли смирились бы с существованием общества, сложившегося под руководством той самой партии, которую они помогали создавать. Очень многое в этом обществе и этой партии вызвало бы у них неодобрение — и не столько с точки зрения политического курса, сколько в отношении самого образа жизни. Попытка создать общество, воплощающее в себе юношеские мечты, в самом лучшем случае удалась лишь отчасти. Но ведь то же самое происходило с социалистическими движениями в других странах! И, учитывая все сложности и ограничения, остается лишь восхищаться тем, какой заметный отпечаток все же наложило трудовое движение на израильское общество.
Кроме того, подрыв идеологических принципов оказал на «Мапаи» меньшее влияние, чем на другие социалистические партии, — потому, что эта партия с самого начала была более прагматична. Военное положение, на котором страна находилась с 1948 г., не способствовало пересмотру и возрождению идеологических доктрин. Как и в других демократических государствах, «Мапаи» превратилась в своего рода «передаточный механизм», работающий в обоих направлениях: она набрала инерцию и двигалась вперед независимо от своих политических установок и теоретической платформы. Достигнув своей первоначальной цели, она, возможно, устарела и изжила свою историческую роль. Но поскольку другой силы, способной занять ее место, не существовало, «Мапаи» продолжала играть решающую роль в политике Израиля.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В КРОВИ И ОГНЕ: ЖАБОТИНСКИИ И РЕВИЗИОНИЗМ
В период между двумя мировыми войнами сионистское движение находилось в состоянии ожесточенной внутренней войны. Каковы бы ни были его достоинства, это движение никогда не отличалось сплоченностью и единством. Даже в самые лучшие времена в его рядах продолжались внутренние раздоры, а когда наступал кризис, сионизм, ослабленный этими конфликтами, начинал буквально разрываться на части. После подписания Декларации Бальфура в стане сионистов на несколько лет воцарилась эйфория. Лишь немногие отказывались верить в то, что до мессианской эпохи рукой подать и что в самом ближайшем будущем в Палестине возникнет еврейское государство, где тысячи, а то и миллионы евреев обретут наконец свою родину. Казалось, вот-вот осуществится утопия Герцля, описанная им в «Старой новой земле». И только несколько самых дальновидных лидеров понимали, что настоящая борьба только начинается. Остальным же понадобились долгие годы, чтобы осознать, насколько медленным и мучительным будет продвижение к заветной цели.
Британская администрация в Палестине вовсе не проявляла особой симпатии к сионизму, а арабы были настроены откровенно враждебно. Влияние Декларации Бальфура постепенно сходило на нет. Иммигрантов было относительно немного, сельское хозяйство и промышленность развивались черепашьим шагом, а у сионистской организации не было средств на финансирование крупномасштабных проектов: 200 тысяч берлинских евреев тратили больше денег на социальную поддержку своей общины, чем весь еврейский народ — на развитие палестинской экономики. Сионисты наконец получили хартию, о которой мечтал Герцль, но будущее их программы оставалось столь же туманным, как и прежде. Наступил застой, а в некоторых отношениях — даже упадок, тогда как по всей Европе наблюдались зловещие признаки того, что положение еврейских общин в диаспоре вот-вот станет еще более шатким. Антисемитизм достиг еще более угрожающих масштабов, чем до I мировой войны. Экономический кризис 1930-х гг. поражал одну страну за другой, и на горизонте сгущались мрачные тучи политических потрясений.
Учитывая все эти обстоятельства, неудивительно, что многие сионисты проявляли недовольство официальной политикой своих лидеров. Исполнительный комитет упрекали в слабости и безынициативности, а вину за все неудачи возлагали лично на Вейцмана. Его обвиняли в нерешительности, в склонности слишком полагаться на Англию и в стремлении свести движение к «карманному сионизму», предав заветы Герцля и Нордау. Сначала такие настроения возобладали в Польше, где положение евреев становилось все более критическим; а вскоре призывы к более активным действиям стали раздаваться и из других стран. У этого оппозиционного движения был свой духовный лидер — Владимир (Зеев) Жаботинский, авторитет которого был столь велик, что невозможно изложить историю самого движения без постоянных ссылок на личность этого человека, сохранявшего свое влияние в течение двух десятилетий.
Жаботинский, этот «чудо-ребенок» русского сионизма, пользовался широкой известностью и восхищением уже в возрасте двадцати с небольшим лет. Он рано прославился как эссеист и блестящий оратор (возможно, лучший в рядах движения, многие члены которого не могли пожаловаться на недостаток красноречия). Он родился в Одессе в 1880 г. в семье, принадлежавшей к среднему классу, но быстро обедневшей после смерти отца. Молодой Жаботинский рос в жизнерадостной атмосфере этого приморского города, который в то время был крупным культурным центром и представлял собой бурлящий котел всевозможных наций и религий — космополитичный, яркий и красочный, открытый всем новым веяниям и идеям. В ранней юности Жаботинский не проявлял особого интереса к иудаизму; не присоединился он, в отличие от большинства своих современников, и к революционному движению[461]. Он любил русскую литературу, писал стихи на русском языке, а в возрасте шестнадцати лет начал публиковать эссе в местных газетах. Первым