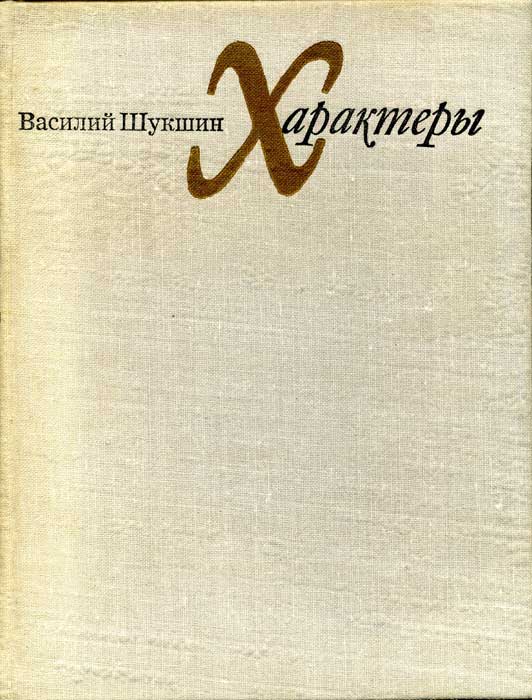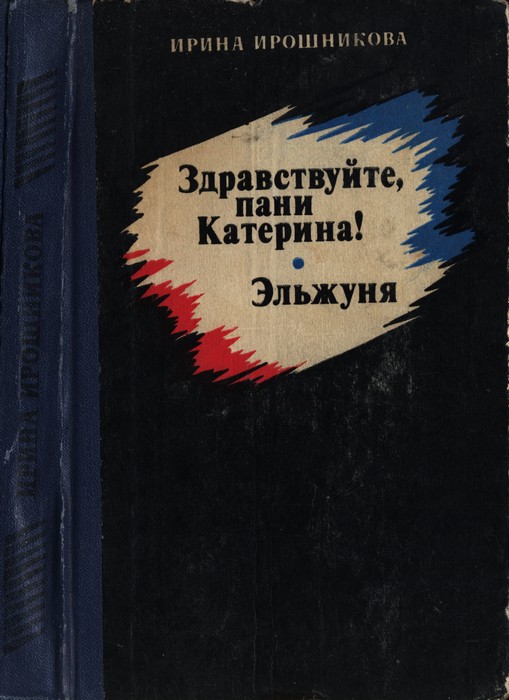Шрифт:
Закладка:
Но вы обратите внимание на сказанный сон мой, ибо есть сны значения ничтожного, происходящие от наполнения желудка, а есть и не ничтожные, которые от ангелов. Вот эти удивительны!
XVIII
Кажется, я вам говорил, что у нас в достаточном числе перегудинских панов обитал препочтенный и тоже многообожаемый миляга и мой в некотором роде родич Дмитро Опанасович. Вот, доложу вам, тож добрый гвоздь был. Это тот самый, о коем слегка раньше упоминалось, что он отобрал себе отменное образование в московском пансионе Галушки, а потом набрал хобаров в пограничной краже. Он был давно в разъезде с супругой и, как многострастный прелюбодей, скучал без женского общества и ввиду того всегда имел в порядке женин бедуар и помещал в нем нарочитых особ женского пола для совместного исправления при нем хозяйственных и супружеских обязанностей и для разговоров по-французски. Для того же, чтобы дать всему такому соединению приличный вид, он взял себе на воспитание золотушную племянницу шести годов и, как бы для ее образования, под тем предлогом содержал соответствующих особ, к исполнению всех смешанных женских обязанностей в доме. Но главное, что он имел подлое обыкновение не все их должности объяснять им при договоре, а потому случалось, что с некоторыми из них у него бывали неудовольствия, и иные вскорости же покидали бедуар и от него бежали… Были и таковые даже, что обращались ко мне под защиту, как представителю власти, но я – бог с ними – я их всегда успокаивал и говорил: «Послушайте: ведь спором ничего не выйдет, а самое лучшее – мой вам совет, – что можно в вашем женском положении исполнить, то и надо исполнить». И инии того послушали, а одна, прошу вас покорно, и такая была, что мне же за это да еще и в лицо плюнула. Но а все, душко мое, своей судьбы, однако же, не избежала… И Дмитрий Афанасьевич, знаете, это очень ценил и зато в иных своих тайностях от меня уже не укрывался. Привезет, бывало, новую воспитательницу и говорит мне моими же словами: «Спробуем пера и чорнила: що в іому за сила?» – или скажет:
– Ну как-то эта Коломбина, потрафит угодить нашему Пьеро или нет?
А потом тоже прямо объявляет:
– Нет; эта Коломбина – бя! Она нашему Пьеро не потрафила! – И сейчас же за то таковой была перемена. И было у него этих перемен до черта! И на эту пору тоже как раз была Коломбина «бя!», и была ей такая спешная смена: потому что полька, которая у него жила, большеротая этакая, и вдруг с ним побунтовалася и ключи ему так в морду бросила, что синяк стал… Что с ними, с жинками, поделаешь, як они ни чина, ни звания не различают! Ну-с, а через это украшение многоуважаемый Дмитрий Афанасьевич сам не мог ехать за новою особою, а выписал, миляга, таковую наугад по газетам и получил ужасно какую некрасивую, с картофляным носом, и коса ей урезана, и в очках, а научена на все познания в Петербургской педагогии.
Но сия некрасивая девица пленила меня тем, что прибыла к нам в описанном подозрительном виде, и я захотел ее испытать прежде, чем до нее приничет своим оком преподобный Назария, и говорю:
– Ну, не знаю как кому, а мне сдается так, что сия Коломбина на вашего Пьеро не угодит?
А он, вместо того чтобы, по своему обычаю, шутить моими словами: «Спробуем перо и чорнила – шо в iому за сила!» – с грустью мне отвечает:
– Да, братец, это и действительно: кажется, я на сей раз так ввалился, как еще никогда и не было. Скажи, пожалуйста, даже совсем никак глаз ее не видно за темными окулярами.
– Да, – отвечаю, – это немалое коварство.
– Не понимаю, как это цензура всем таким ужасным валявкам и малявкам позволяет печатать о себе в газетах объявления. Если б я главный цензор был, никогда бы это не вышло.
– Эге! – говорю, – а вот то ж-то оно и есть. Глаза человека – это есть вывеска души, а неужели она так и не скидает очков?
– Вообрази – не скидает!
– Да вы бы от нее этого потребовали.
– Скажи же, с какого повода?
– Ну так она же их передо мною скинет.
– Сделай твое одолжение!
– Извольте!
И что я только выдумал! – ей-богу, даже и сам не знаю, откуда у меня это взялося.
XIX
Вздумал я с этою загадочною личностью все дознать безотложно и непосредственно, и для того, чтобы с нею ознакомиться, изобрел такой повод, что будто у меня начинают очи притомляться и будто я желаю купить себе темны окуляры, да не знаю, что им за цена, и що в их за сила, и где они покупаются? Можете теперь догадаться, яка выдумка! Ну а що насчет ее образованности, то я этого не боялся, потому что, бывавши у вице-губернаторши при примерных казнях по совету Жуковского, я сам значительно приобык к светскости и мог загнуть такое двусмыслие, что мое почтение. И пошел я с этим в послеобеденное время в дом к Дмитрию Афанасьевичу и подхожу потиху, с надеждой: не увижу ли оную валявку или малявку женского пола с картофельным носом, и тогда ее спрошу: «Где господин Дмитрий Афанасьевич?» – и тогда мы с ней разговоримся.
Так было всегда с прежнею, с полячкою: спросишь у нее, а она, бывало, отвечает: «Пожалуйте; вот он, сей подлец». И все они его як-то скоро в сей чин жаловали, а он, бывало, только головой мотает и скажет: «Начались уже дискурсы в дамском вкусе». А этой, нынешней дамы, вообразите себе, совсем не видно, и я разыскал сам Дмитрия Афанасьевича и говорю ему:
– Знаете ли вы, премногообожаемый Митрий Афанасьевич, присловие, що як все иде по моде, то тогда и морда до моды прётся.
Он отвечает:
– Да; и что ж потому?
– А то ж потому, що ось так и я хочу купить себе потемненные окуляры, щоб удоблегчить глаза, но не знаю, що в их за сила, и сколько они стоят, и где их набрать?
А он еще моих мыслей не втямил и отвечает:
– Я, батюшка мой, слава богу, не жид и очками не торгую.
– Да и не о том я говорю, чтобы вы торговали, а вот ваша новая дама такие темные очки носит.
– Ну так что же я с этим сделаю! Мне это, конечно, противно.
– А разумеется, – говорю, – вам это и должно быть неприятно! Как же, она к вам ведь приближенная, а между тем вам невозможно даже ее позу рожи видеть. Я к вам пришел с тем, чтобы все это ее очарованье разрушить.
– Сделай, – говорит, – милость, но только чтоб и я видел.
– Пожалуйста, спрячьтесь где-нибудь и смотрите.
– Ну хорошо, и так как она теперь в зале при чайном столе за самоваром сидит, то ты входи к ней и скажи, что я еще не скоро приду, а я спрячусь и буду в это время из коридора сквозь щель смотреть.
– Очень превосходно – скажите только скорее: как ее звать?
– Юлия Семеновна.
– А из какого она звания?
– Ничего необыкновенного, но только «из ученых». Можешь смело про все матевировать.
Пошел я в залу и вижу действительно, ах, куда какая не пышная!.. Извольте себе представить, в пребольшой белой зале, за большим столом перед самоваром сидит себе некая женская плоть, но на всех других здесь прежде ее бывших при испытании ее обязанностей нимало не похожая. Так и видно, что это не собственный Дмитрия Опанасовича выбор, а яке-с заглазное дряньце. Платьице на ней надето, правда, очень чистое, но, знаете, препростое, и голова вся постриженная, как у судового паныча, и причесана, и видать, что вся она болезненного сложения, ибо губы у нее бледные и нос курнопёковатый, ну а очей уж, разумеется, не видать: они закрыты в темных больших окулярах с теми пузатыми стеклами, що похожи как лягушечьи буркулы. Как вы хотите, а в них есть что-то подозрительное!
Ну-с, я ее обозрел и вижу, что она сидит и что-то вяжет, но это не деликатное женское вязанье, а простые чулки, какие теперь я вяжу; перед нею книжка, и она и вяжет, и в книжке читает, и рассказывает этой своей воспитаннице, Дмитрия Афанасьевича сиротке; но, должно быть, презанимательнейшее рассказывает, ибо та девчурка так к ее коленям и прильнула и в лицо ей наисчастливейше смотрит!
Я даже подумал в себе: неужли же