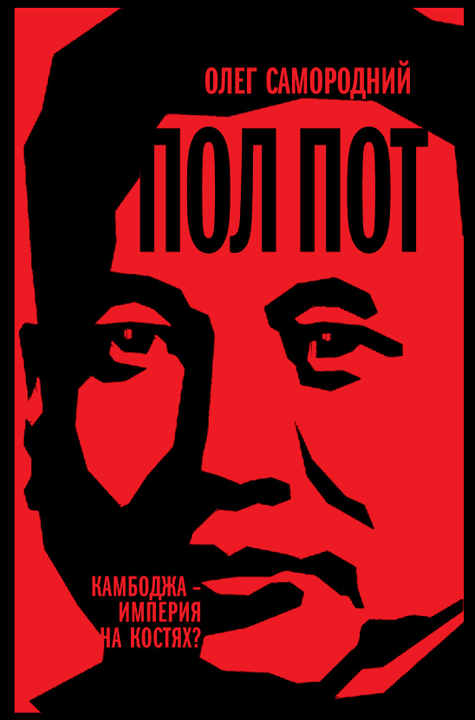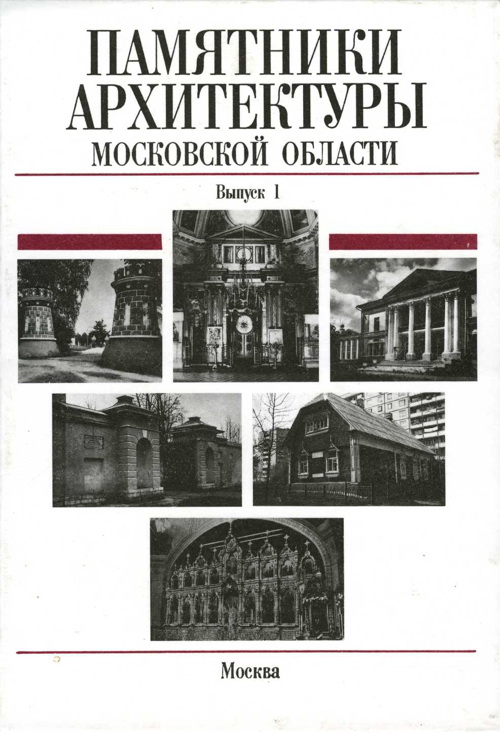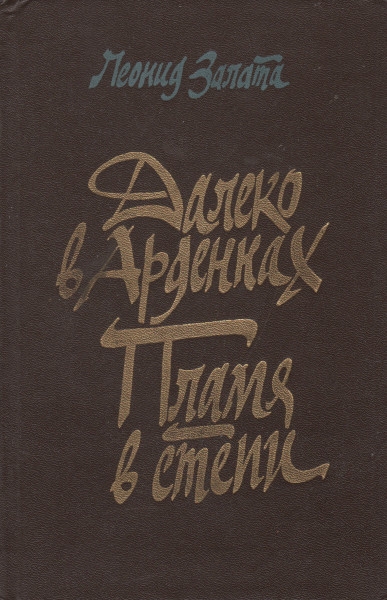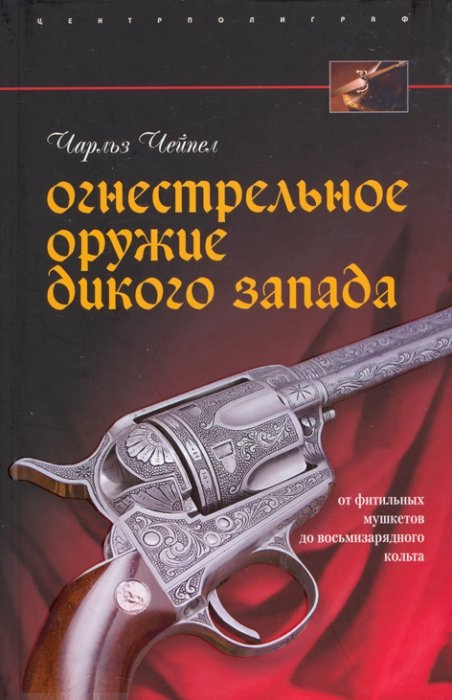Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В XVII веке во времена царствования Михаила Фёдоровича на степной границе Московского государства не прекращается изнурительная война с татарами. Здесь пытают счастья вольные казаки, и одна за другой всё дальше на юг возводятся стены полувоенных городков. Героические события и судьбы главных героев причудливо сплетаются в единый узел...
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валентин Сергеевич Маслюков»: