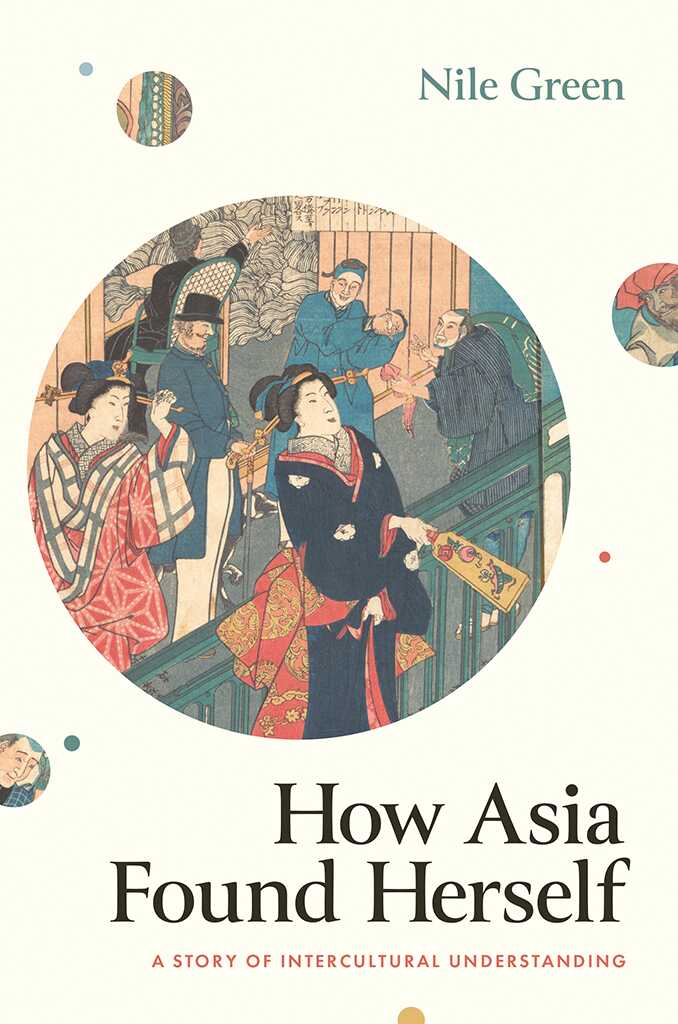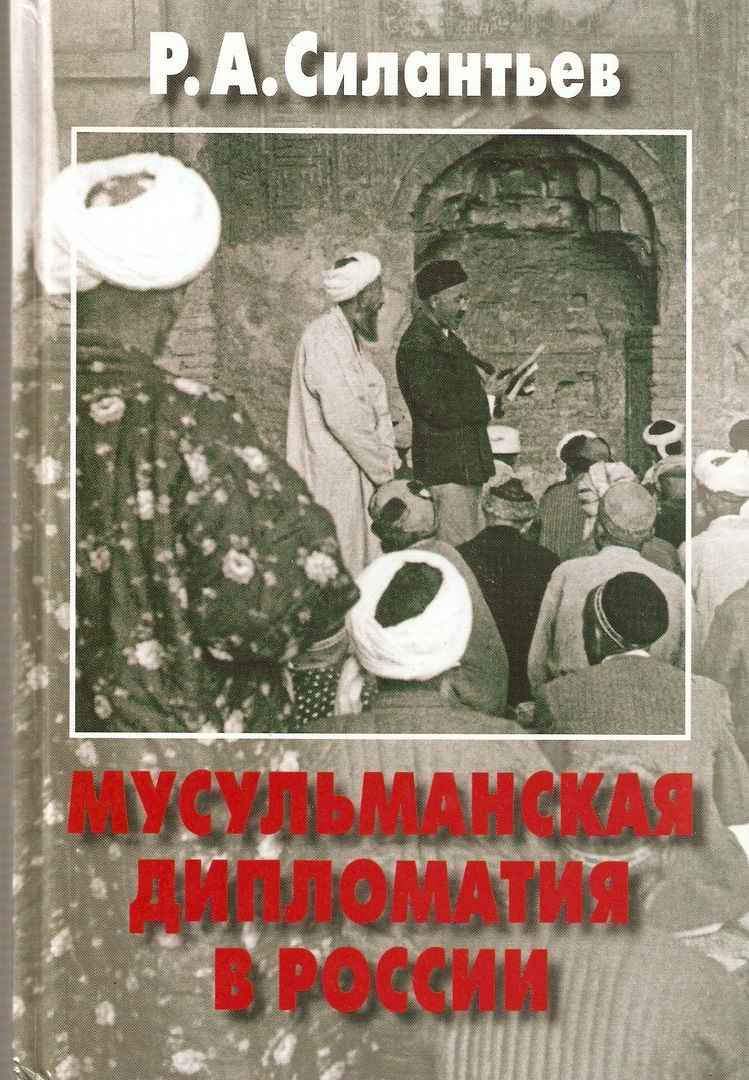Шрифт:
Закладка:
Лучшая книга 2023 года по версии журнала Foreign Affairs
В XIX веке европейские империи построили огромные транспортные сети, чтобы получить максимальную прибыль от торговли, а христианские миссионеры распространили книгопечатание по всей Азии, чтобы донести Библию до колонизированных народов. Непредвиденным следствием этого стала азиатская революция в области коммуникаций: морская публичная сфера распространилась от Стамбула до Иокогамы. Со всех концов континента любопытные люди решали задачи изучения культур друг друга, используя инфраструктуру империи для своих собственных исследовательских целей. На японском или персидском, бенгальском или арабском языках они писали путевые заметки, истории и разговорники, чтобы нанести на карту огромные различия между регионами, которые европейские географы обозначили как «Азия».
Межазиатское взаимопонимание далеко не всегда протекало гладко и сталкивалось с самыми разными препятствиями, особенно на территории с таким количеством письмен и языков. Перед вами драматическая история межкультурных знаний на самом большом в мире континенте, раскрывающая корни устойчивых трещин в азиатском единстве.
Нил Грин занимает кафедру всемирной истории имени Ибн Халдуна в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.