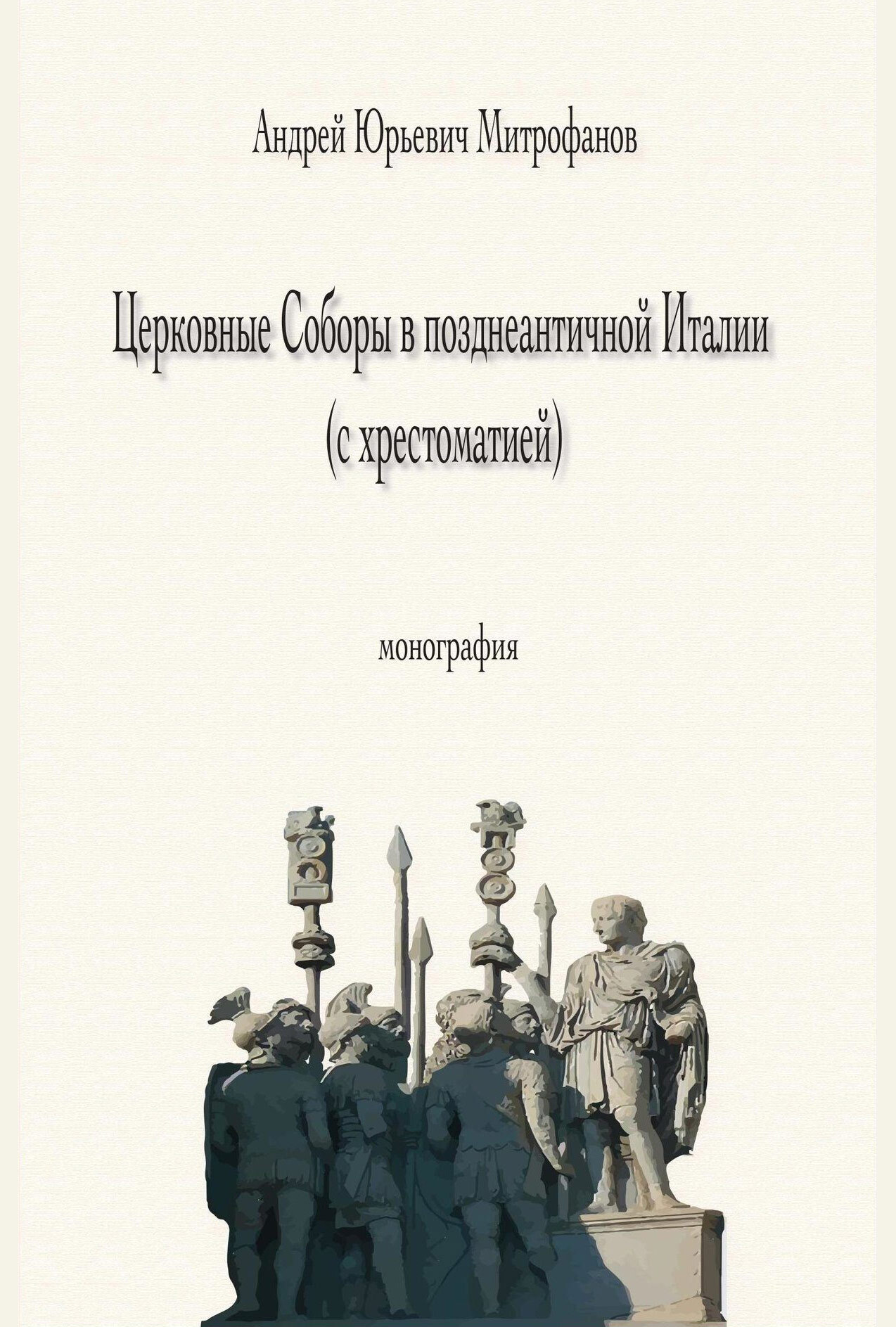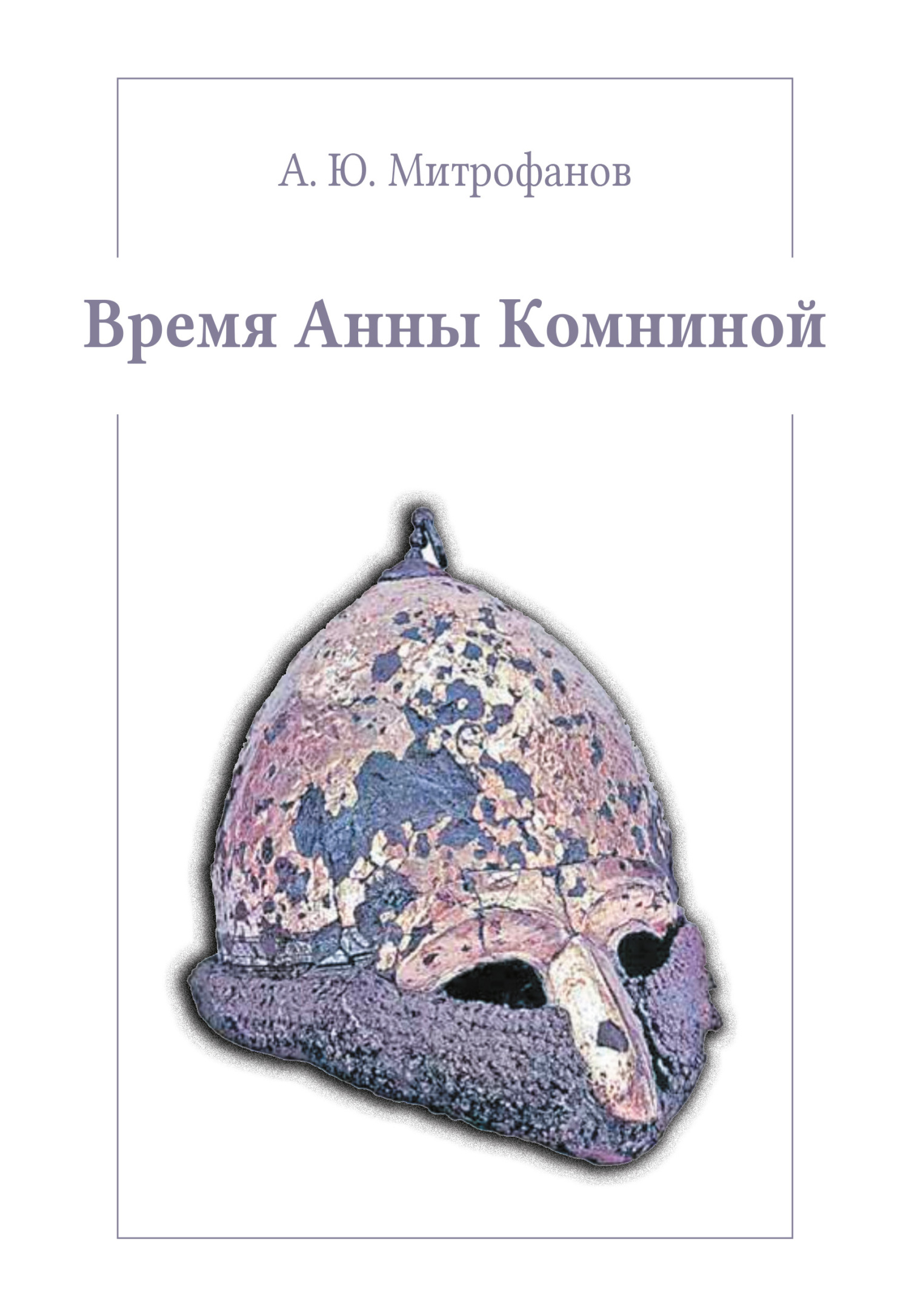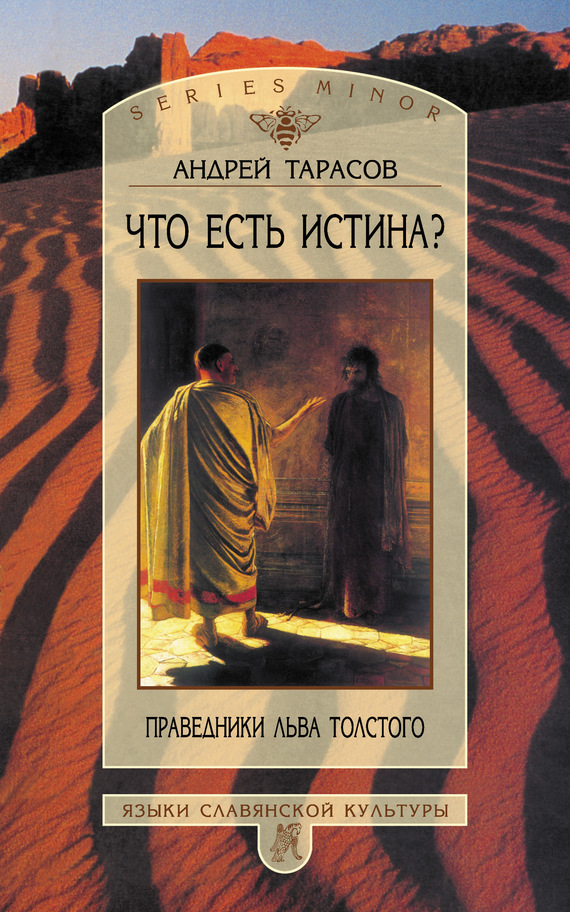Шрифт:
Закладка:
Монография доктора исторических наук, профессора кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии Андрея Юрьевича Митрофанова посвящена развитию и эволюции института церковных Соборов в Италии в эпоху поздней римской империи IV-V веков.В условиях, когда императорская власть ослабла, а германские и алано-сарматские племена и гунны регулярно вторгались во внутренние провинции римской империи, христианские епископы часто играли ключевую роль в управлении муниципиев, а церковные Соборы приобретали характер авторитетного общественного представительства.Представленные в монографии акты Соборов позднеримской Италии, начиная с эпохи императора Констанция II и вплоть до периода остготского владычества, являются важными документами не только для реконструкции истории идей, догматов и канонов Церкви, но и для изучения истории латинского языка. Они также необходимы для исследования деятельности римских судов, поскольку в случае отсутствия протоколов гражданских или военных судов римской империи эти акты позволяют хорошо представить процедуру римского судопроизводства.Монография рекомендуется преподавателям и студентам богословских учебных заведений, богословских факультетов светских вузов, а также всем интересующимся историей поздней античности, раннего Средневековья и церковных Соборов.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.