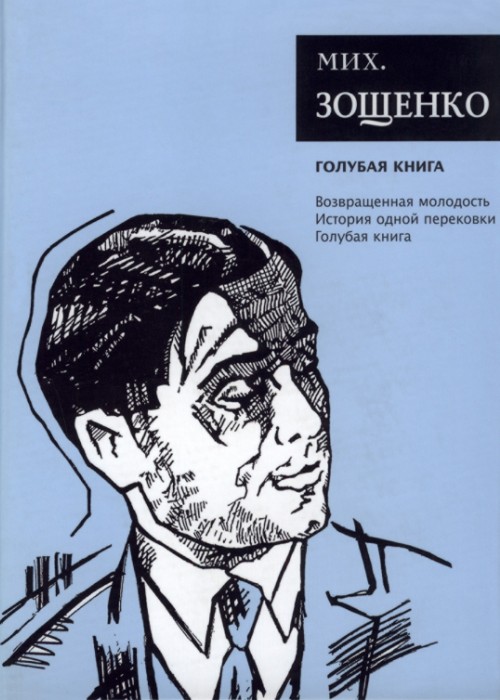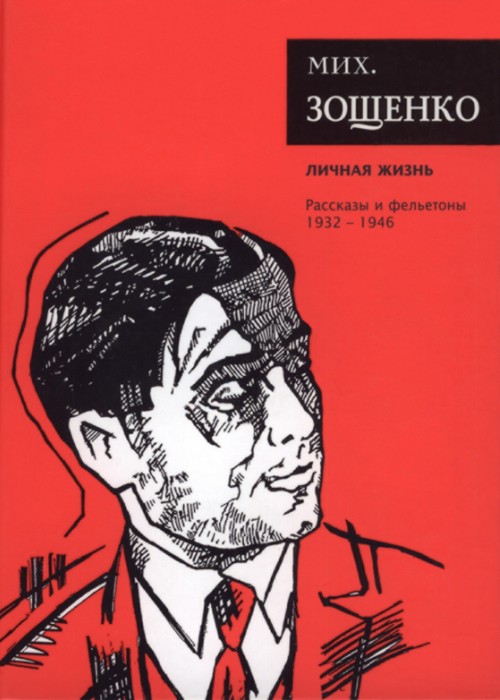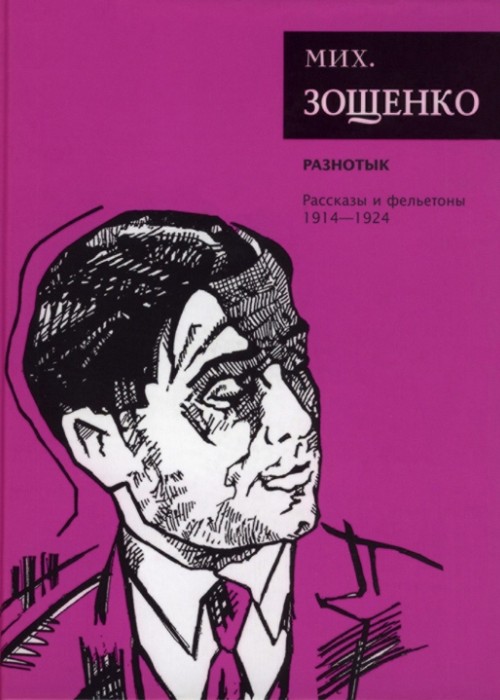Шрифт:
Закладка:
Собрание сочинений. Том 4. Личная жизнь - это четвертый том самого полного собрания прозы одного из крупнейших писателей-новаторов XX века - Михаила Михайловича Зощенко. В этот том вошли произведения, посвященные личной жизни автора и его героев, а также его знаменитые мемуары “Перед смертью”.
В личных рассказах Зощенко откровенно и иронично повествует о своих детских впечатлениях, юношеских приключениях, любовных переживаниях, браках и разводах, дружбе и вражде, творческих поисках и конфликтах с властью. Он не стесняется показать свои слабости и ошибки, но и не скрывает свои достоинства и таланты. Он рисует живой и яркий портрет своего времени, его нравов и обычаев, его людей и событий.
В мемуарах “Перед смертью” Зощенко впервые рассказывает о своей трагической судьбе в послевоенные годы, когда он был объявлен “врагом народа” и лишен возможности публиковаться. Он описывает свое страдание и одиночество, свою борьбу за право на слово и за выживание, свою надежду на справедливость и свое отчаяние перед неизбежной кончиной. Он также дает свою оценку своему творчеству и своему месту в литературе.
Собрание сочинений. Том 4. Личная жизнь - это уникальная возможность познакомиться с личностью и творчеством Михаила Зощенко, одного из самых оригинальных и значительных писателей русской литературы XX века. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com.