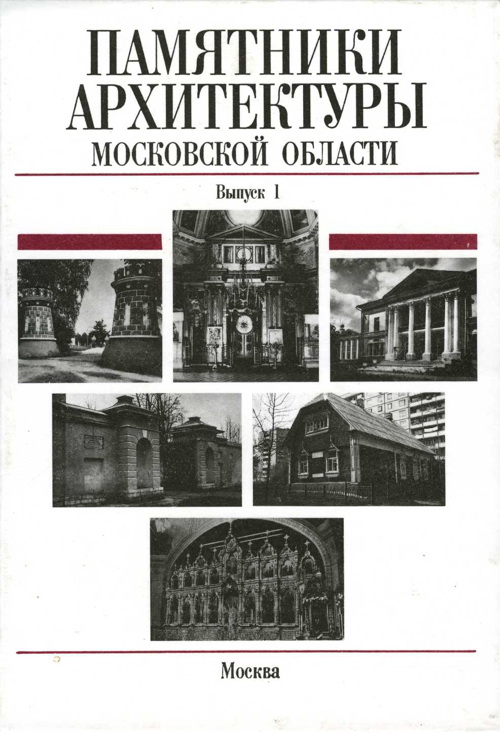Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Социология за последнее столетие выросла в одну из важнейших дисциплин в современной гуманитарной науке. Именно она пытается ответить на вопрос, как устроено общество, в чем природа власти, каковы истоки государства. О ключевых авторах и работах классической социологии, от Томаса Гоббса до Макса Вебера, от «Левиафана» до «Протестантской этики», – в живом и увлекательном рассказе ведущего историка и теоретика социологии Александра Филиппова.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Фридрихович Филиппов»: