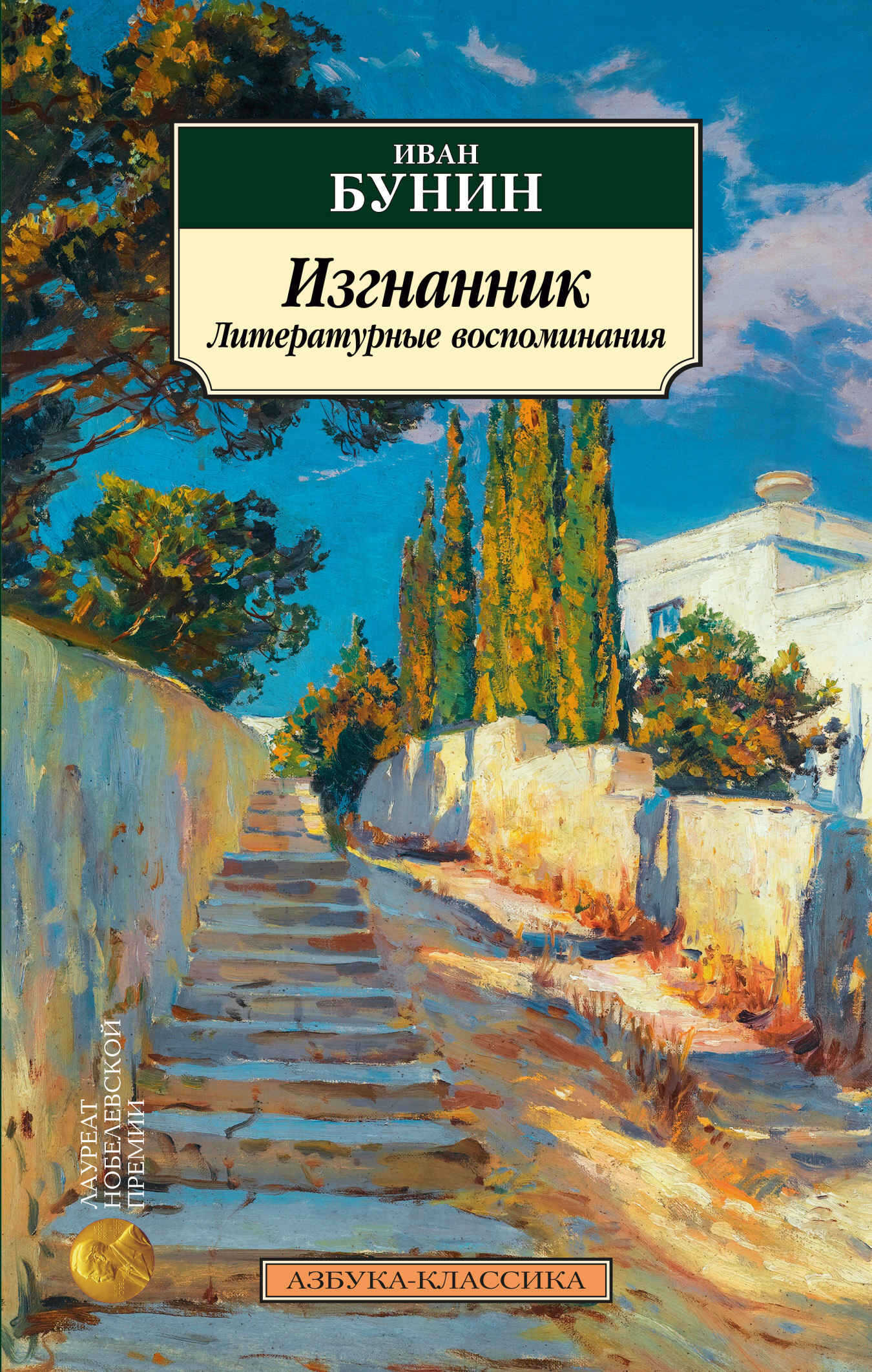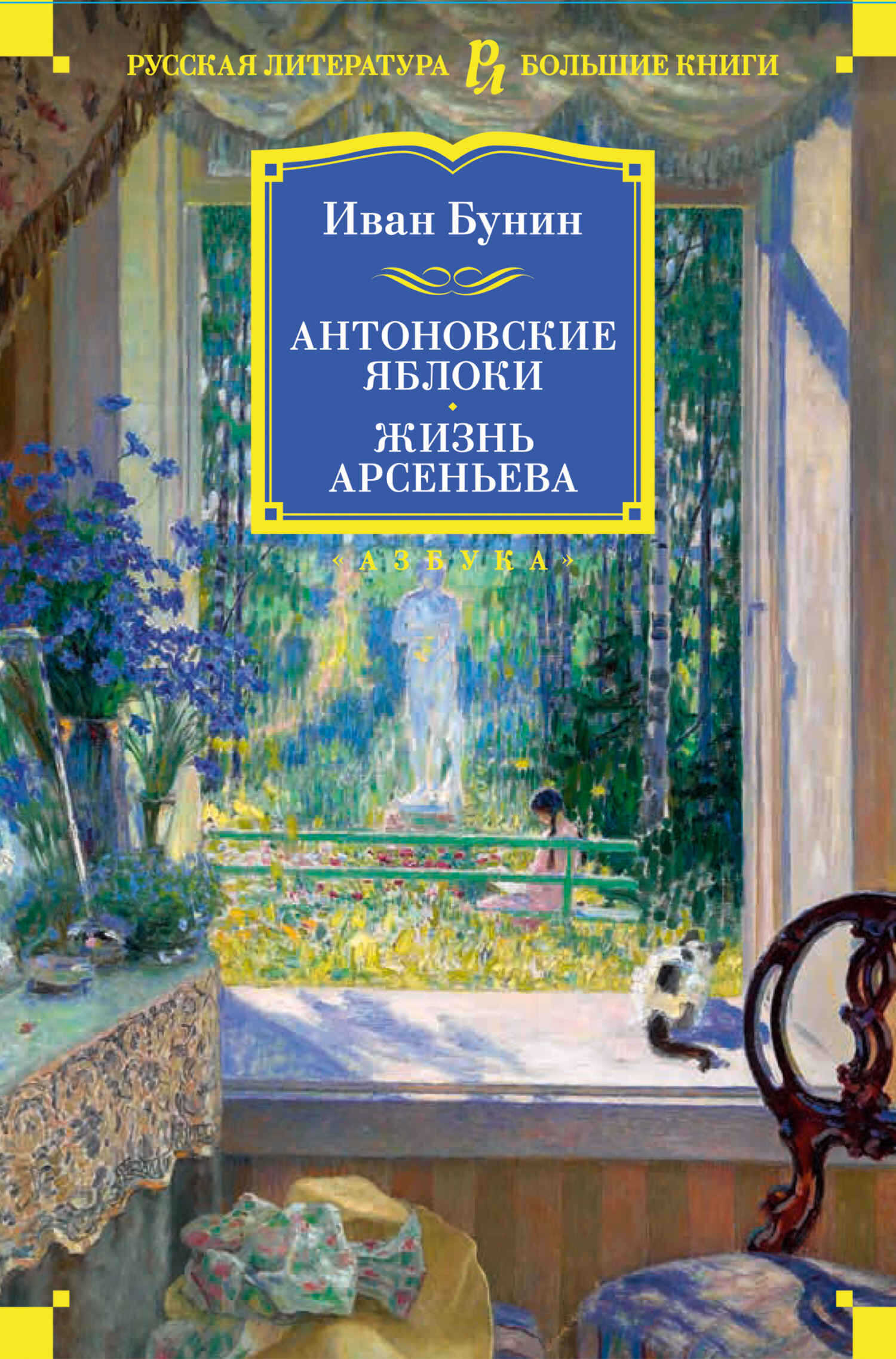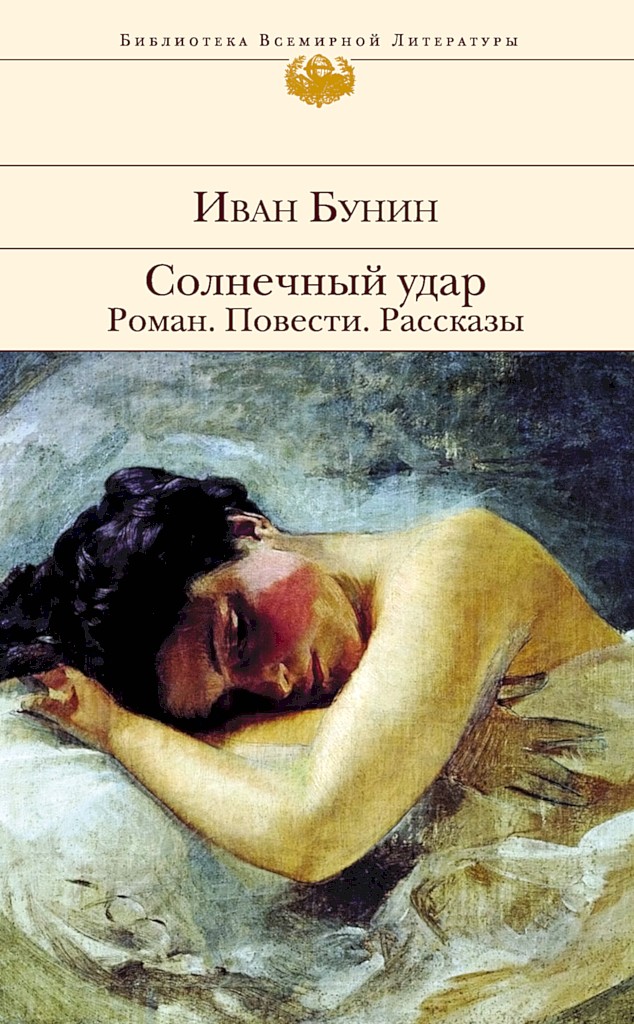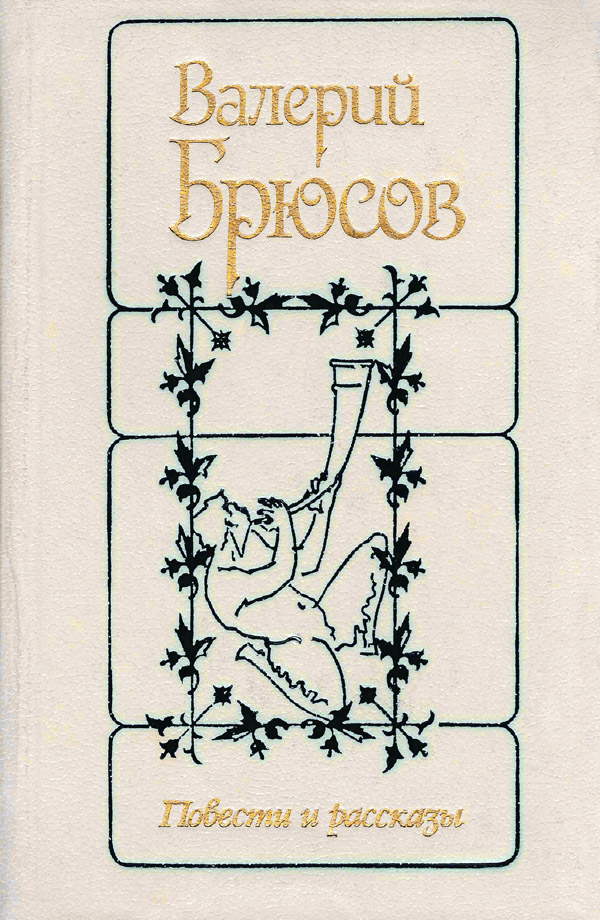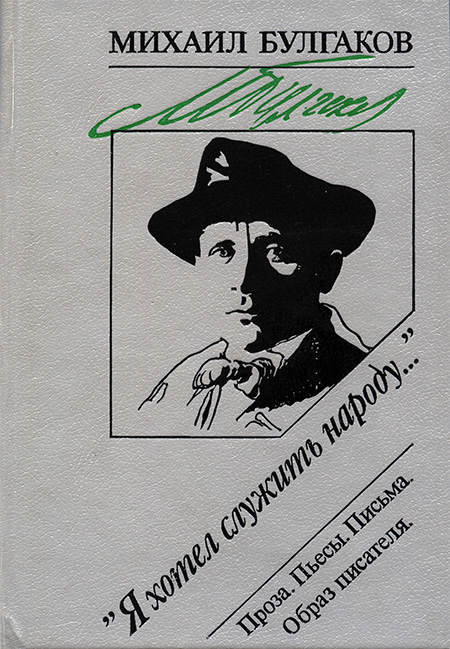Шрифт:
Закладка:
И. А. Бунин в истории отечественной литературы занимает особое место. Подлинный мастер слова, первый русский нобелевский лауреат, создатель эталонной, «парчовой» прозы, по точному определению В. В. Набокова. Он оставался в стороне от модных литературных течений: «не торопился жить вровень с эпохой», – сказал Г. Адамович. Обладая удивительным даром чувствовать прекрасное, Бунин отразил в своем творчестве вечную и ускользающую красоту мира, которая порой освещает жизнь таинственным светом. В настоящем издании печатаются рассказы и повести Бунина разных лет, а также роман «Жизнь Арсеньева», написанный в эмиграции. Эти произведения дают ощущение сиюминутного эмоционального переживания в остановившемся времени дореволюционной России, в застывшем великолепии ушедшей эпохи.