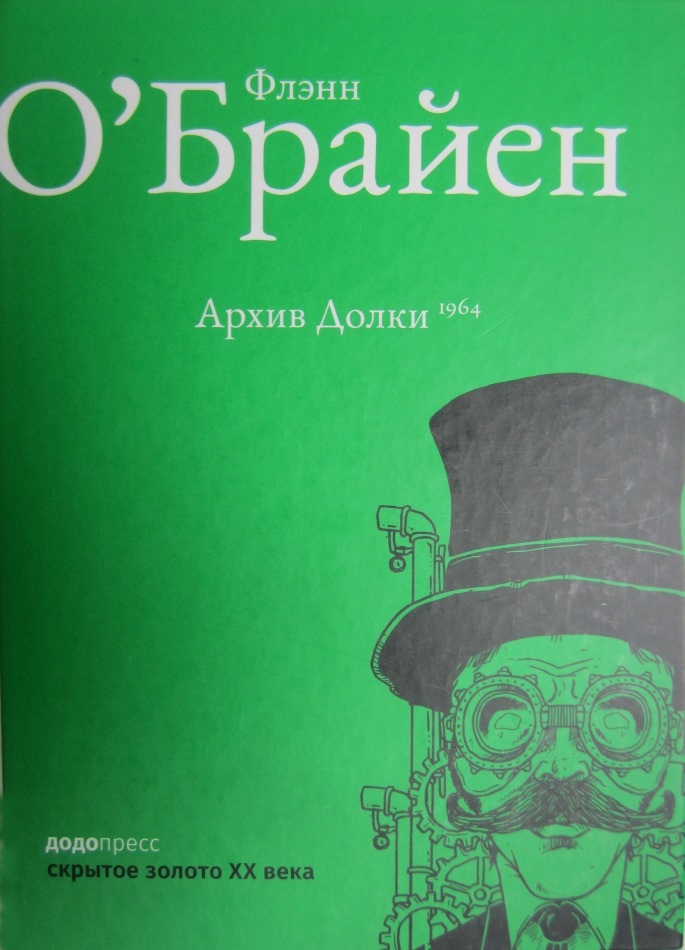Шрифт:
Закладка:
Впервые в истории подробный рассказ о жизни и творчестве Николая Языкова, одного из величайших русских поэтов. Языкову не повезло. При всем колоссальном таланте, он остался для последующих поколений в тени Пушкина и Лермонтова, и почти 200 лет никто не пытался глубоко и серьезно осмыслить его воистину трагичную судьбу. Автор постарался найти свой ответ на самые острые вопросы, не уклоняясь от «скользких» тем. Действительно ли Языковым настолько владела зависть к Пушкину, что он был его фальшивым другом, чем-то вроде Сальери при Моцарте? Действительно ли под конец жизни он настолько ненавидел людей, из-за своей неизлечимой болезни, что навеки запятнал себя злобными стихотворными пасквилями, «доносами в стихах», на лучших и передовых представителей российской мысли и культуры? Ради того чтобы докопаться до истины, пришлось многое пересмотреть в устоявшихся взглядах на пушкинскую эпоху, в оценке и значении многих фигур. Интеллектуальный детектив, как можно было бы определить жанр книги, способен держать читателя в напряжении до самого конца.