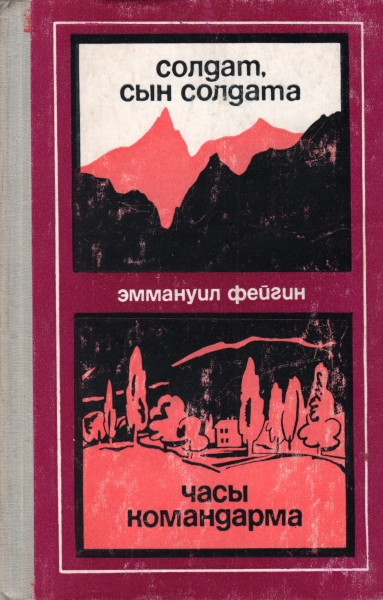Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
История разворачивается трижды – в 1947 году, в 1967 году и в 1987 году. И всегда она начинается с того, что двадцатилетние Вайолет и Элберт встречаются и влюбляются с первого взгляда. Но мир вокруг них каждый раз новый, с новыми установками, приоритетами, целями. Меняется мир, и меняется отношение к классовым различиям, к вопросам пола, к роли женщины в обществе. Выстоит ли любовь, спасет ли она? Или новые социальные ориентиры окажутся важнее?В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Холли Уильямс»: