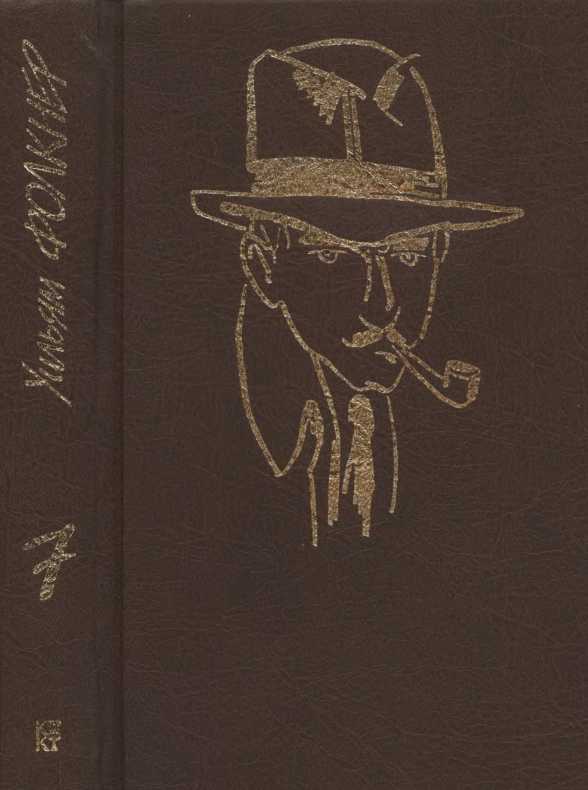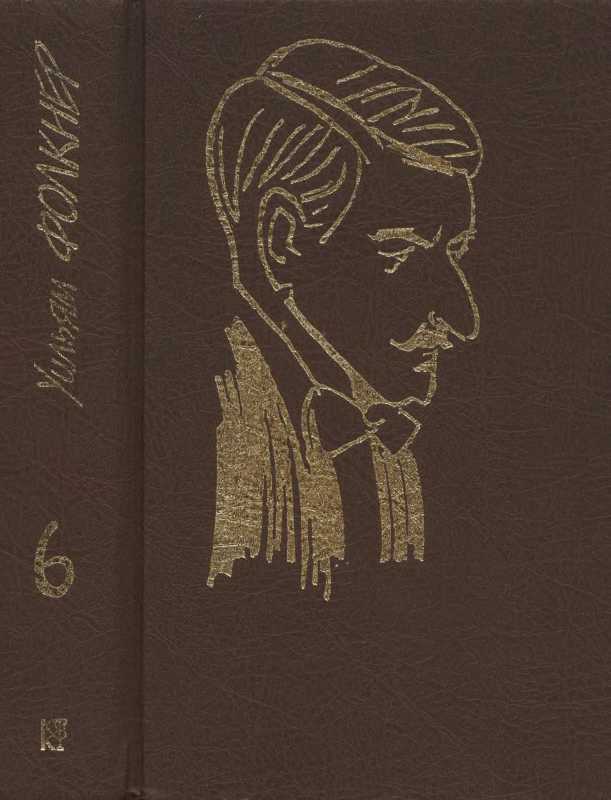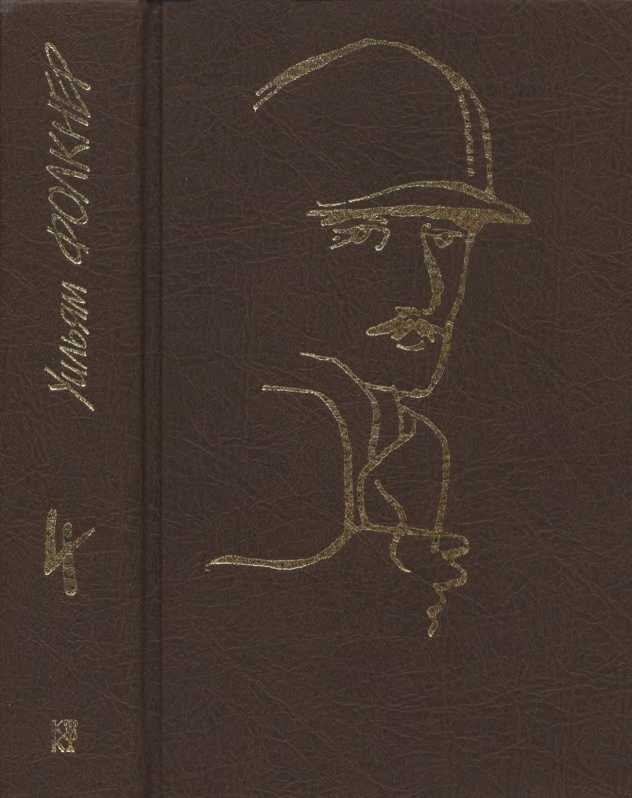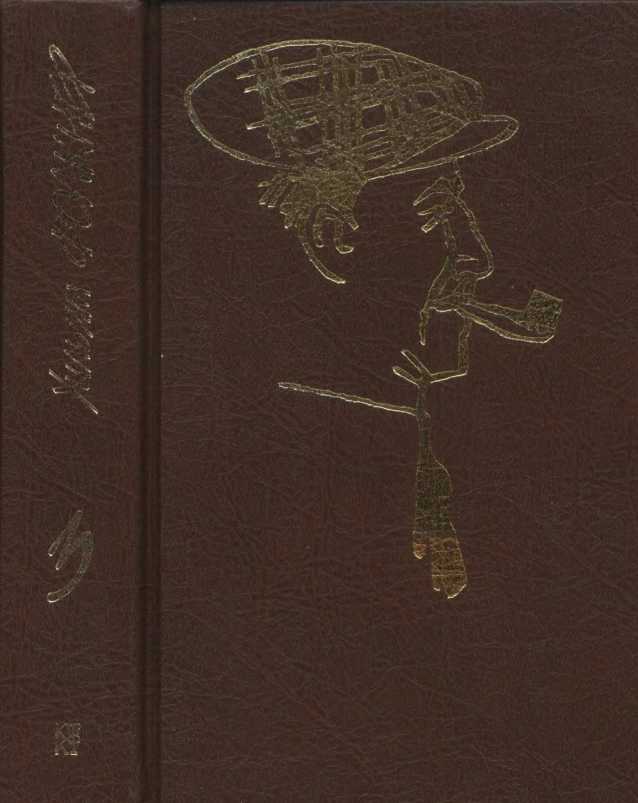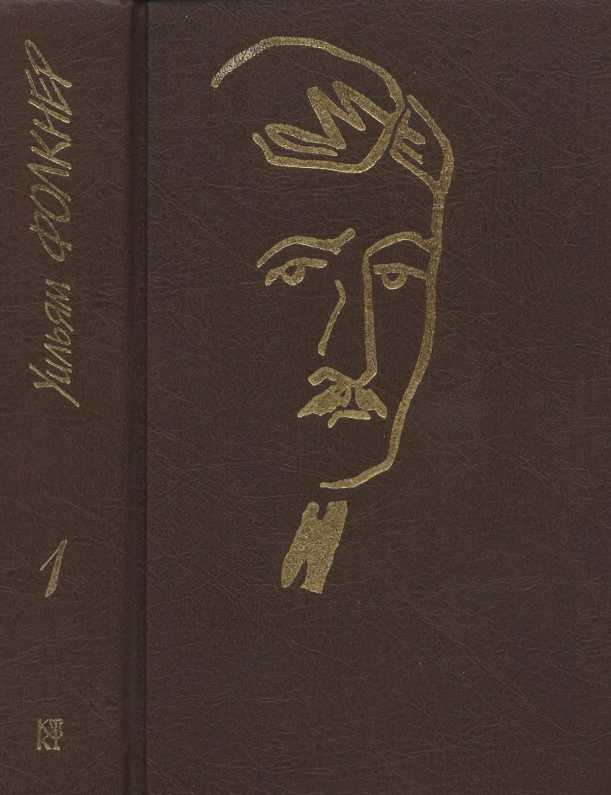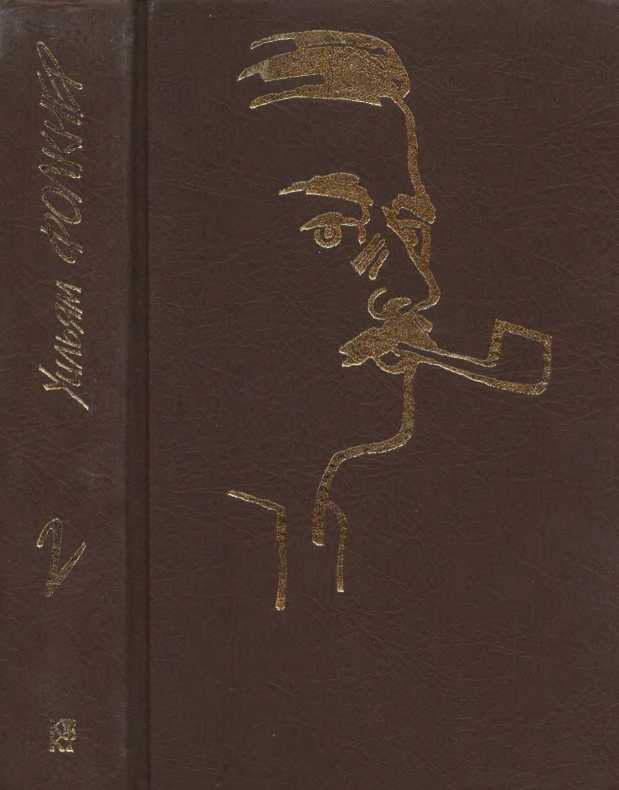Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В шестой том Собрания сочинений включены книга «Сойди, Моисей», роман «Осквернитель праха», а также рассказы из сборника «Ход конем».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Уильям Фолкнер»: