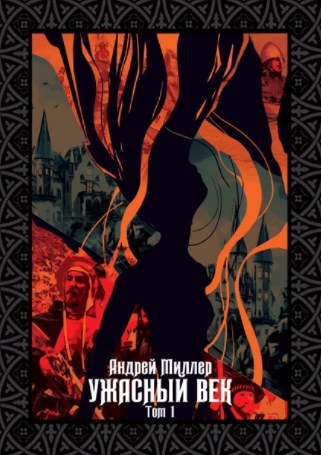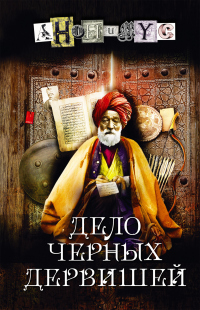Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Осень 1916 года, Петроград. Следователь столичного уголовного сыска, имеющий немалый опыт по части дел мистического свойства, расследует серию крайне загадочных ограблений. Улики приводят сыщика к знаменитому поэту Николаю Гумилёву, недавно вернувшемуся с фронта...
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Миллер»: