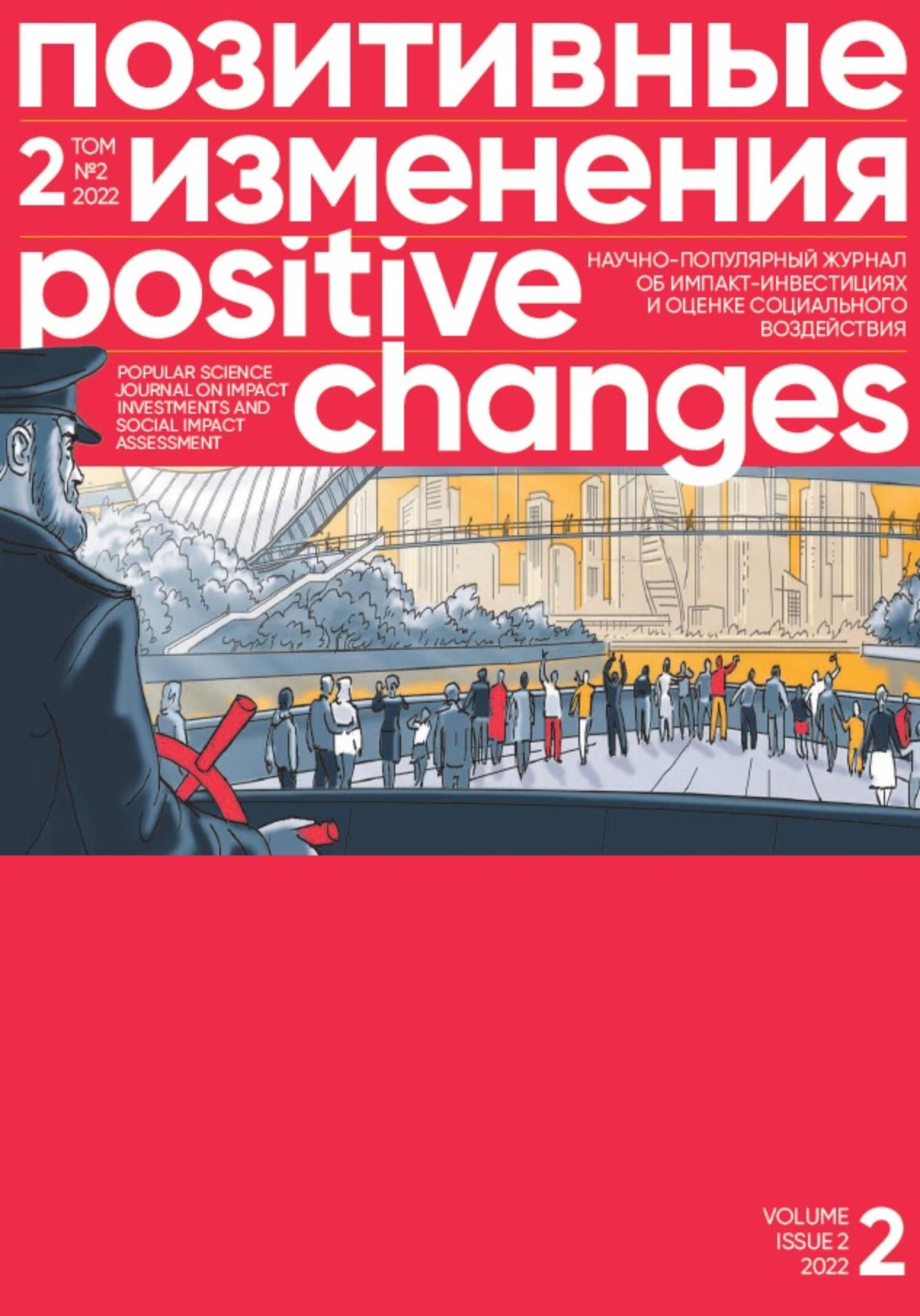Шрифт:
Закладка:
Выделяя четыре источника власти в человеческих обществах (идеологический, экономический, военный и политический), этот многотомный труд прослеживает их взаимоотношения на протяжении всей истории. Предметом первого тома являются взаимоотношения указанных источников власти во времена неолита, древних ближневосточных цивилизаций, классической средиземноморской эпохи и средневековой Европы вплоть до промышленной революции в Англии. В этом томе предложены объяснения происхождения государства и социальной стратификации, городов-государств, милитаристических империй, а также постоянного взаимодействия между ними, мировых религий спасения и, наконец, особого динамизма средневековой и раннесовременной Европы. В заключительных главах представлены обобщения о природе социального развития в целом, различающихся формах социальных общностей и роли классов и классовой борьбы в истории. В данный том включено новое предисловие с авторской оценкой влияния и наследия его труда. Майкл Манн является почетным профессором социологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он автор таких книг, как Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом (2011; рус. изд.: М., 2014), Incoherent Empire (2003) и Fascists (2004). В 2006 г. его книга Темная сторона демократии (2004; рус. изд.: М., 2016) была удостоена премии им. Баррингтона Мура, вручаемой Американским социологическим обществом, как лучшая книга по компаративной и исторической социологии.