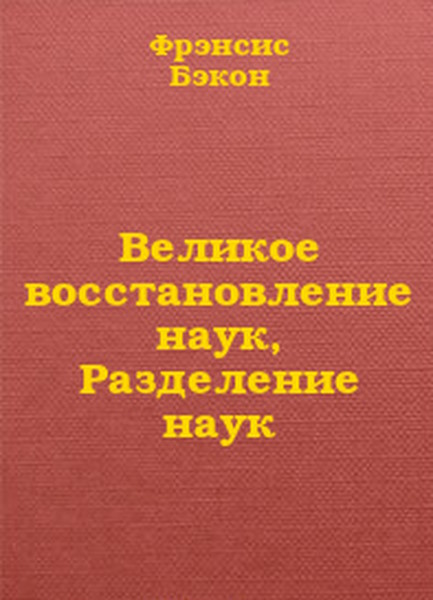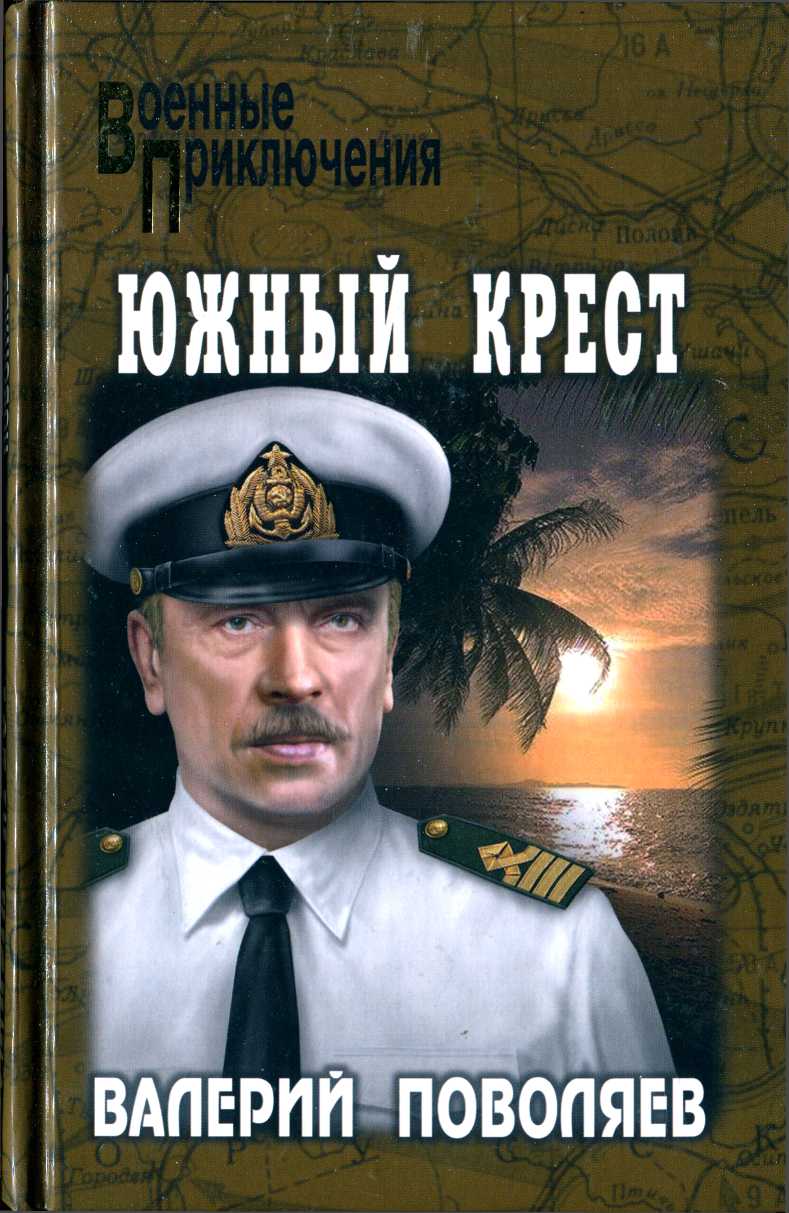Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Въ самый разгаръ «фельетонистической эпохи» и – единовременно – «ариманическаго грѣхопаденія», въ столѣтіе Революціи кровяной, похоронившей на долгое время идеализмъ и съ успѣхомъ положившей во прахъ всё высокое, всё элитарное, я пожелалъ возродить на началахъ новыхъ журналъ символистскаго толка дореволюціоннаго образца, журналъ для немногихъ, ничего общаго не имѣющій со «штемпелеванной культурой»; журналъ, зачинаемый вѣяніями Серебрянаго вѣка – послѣдней творчески цвѣтущей эпохой русской словесности и подлинной интеллектуальной культуры …»
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Альманах Российский колокол»: