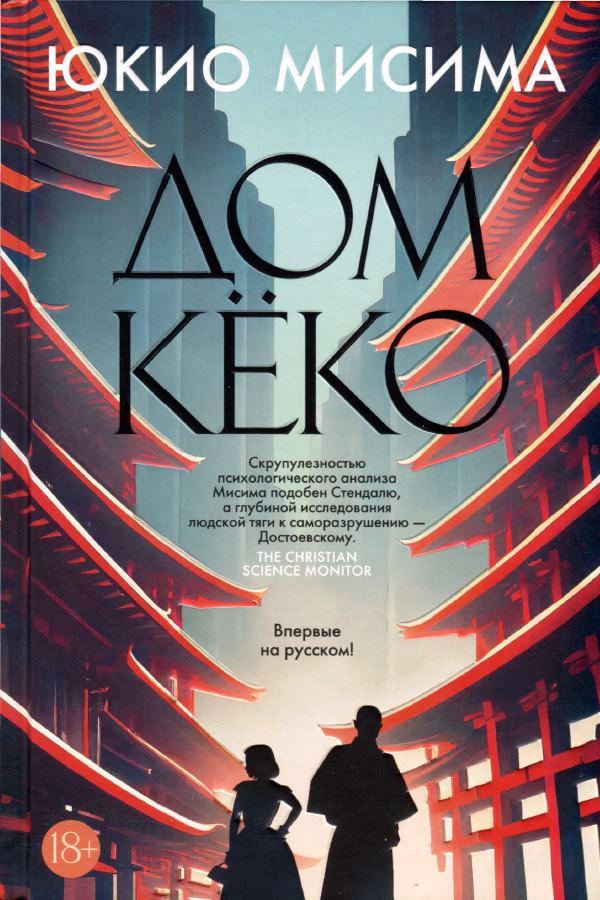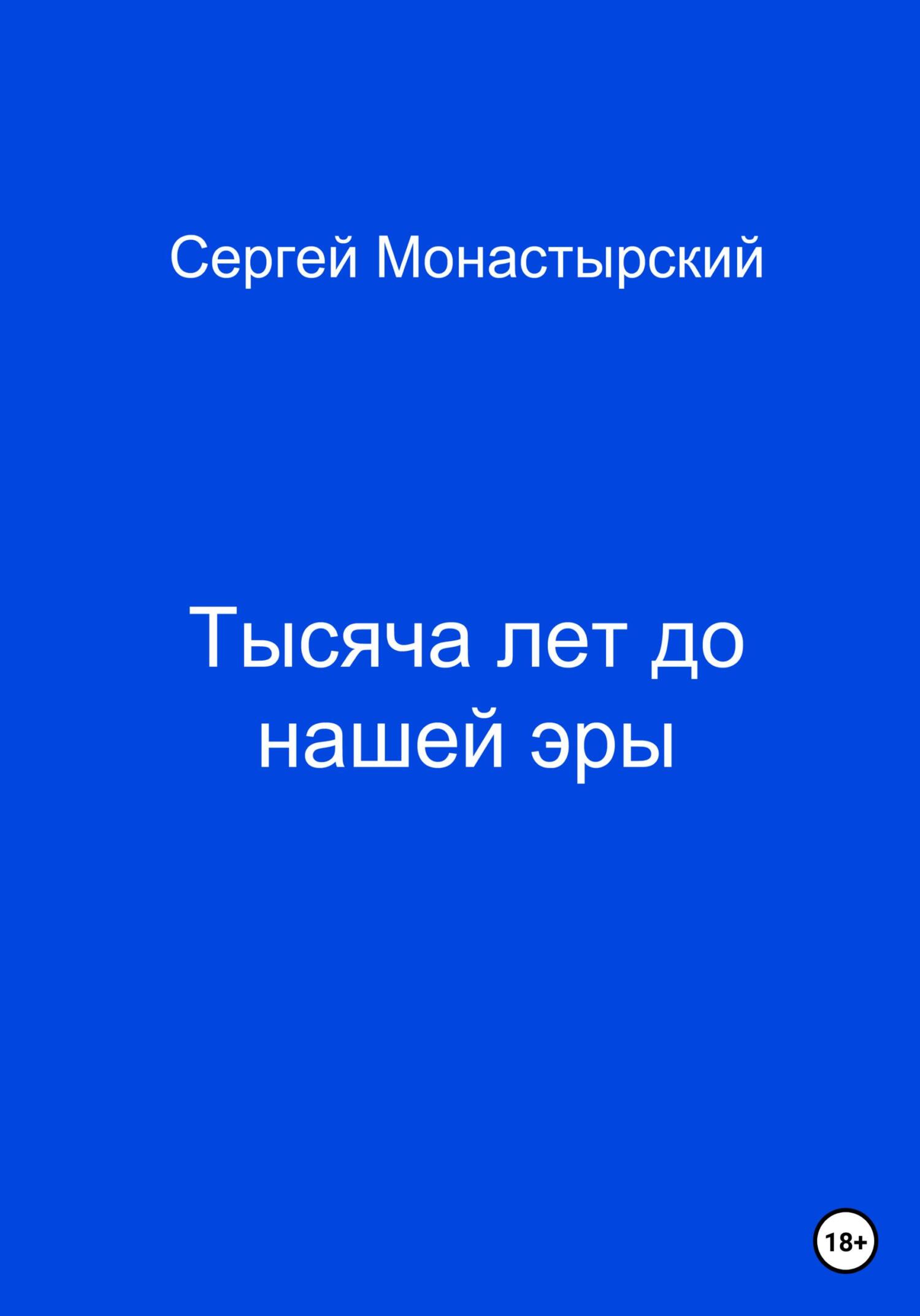Шрифт:
Закладка:
Дом Кёко - роман Юкио Мисима, одного из самых известных и скандальных японских писателей XX века. Это книга о том, как меняется Япония после Второй мировой войны и как это отражается на судьбах ее жителей.
Главный герой книги - Нобуо, молодой и амбициозный бизнесмен, который стремится к успеху и богатству. Он женится на Кёко, дочери влиятельного политика, и переезжает в ее роскошный дом. Но он вскоре понимает, что его жена - не та, за кого он ее принимал. Она - холодная и расчетливая женщина, которая использует его для своих целей. Она также скрывает от него свою тайную связь с ее двоюродным братом, Исао, который является лидером националистического движения. Исао - страстный и идеалистичный молодой человек, который мечтает о восстановлении императорской власти и традиционных ценностей. Он готовит заговор против правительства, в который вовлекает и Нобуо.
Нобуо должен решить, на чьей он стороне и что для него важнее: любовь или долг, семья или страна, прошлое или будущее. Ведь от его выбора зависит не только его судьба, но и судьба всей Японии. Сможет ли он разобраться в своих чувствах и своем предназначении? Какие тайны скрывает дом Кёко? И какая цена придется заплатить за свободу и честь?
Чтобы узнать ответы на эти вопросы, вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Это глубокий и пронзительный роман, полный драмы, интриги и философии, который не оставит вас равнодушными.