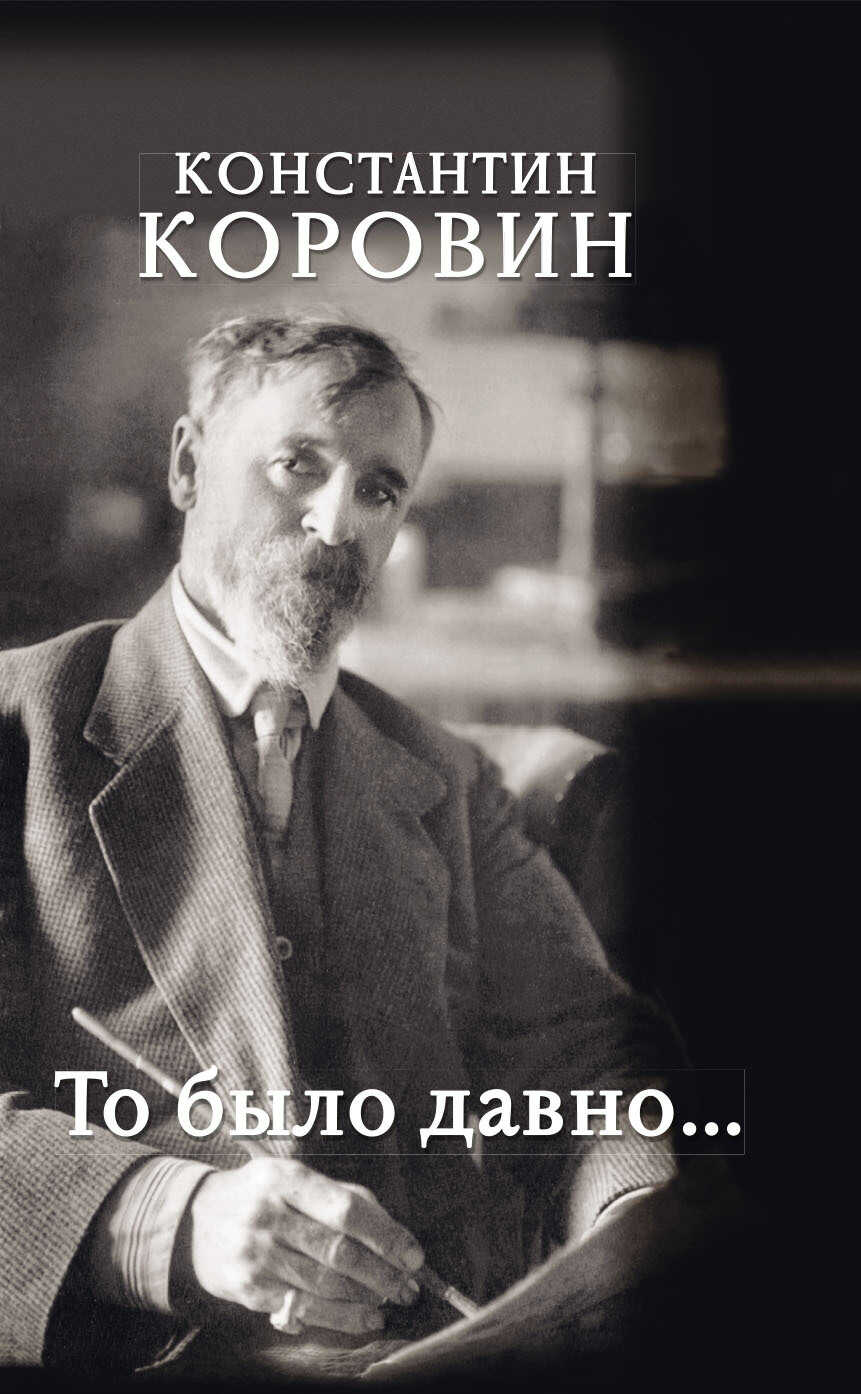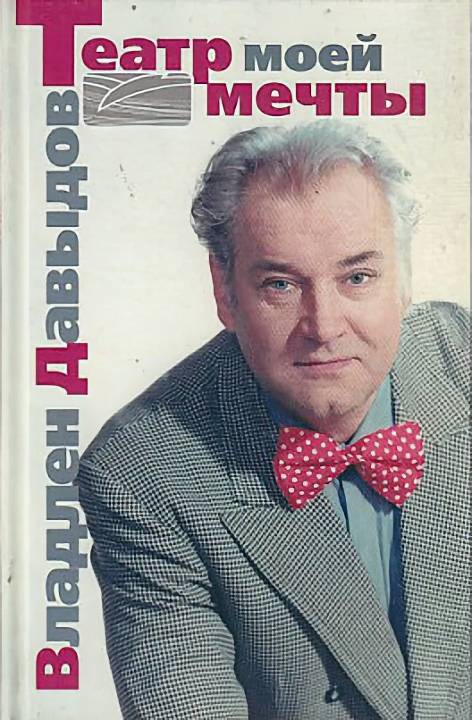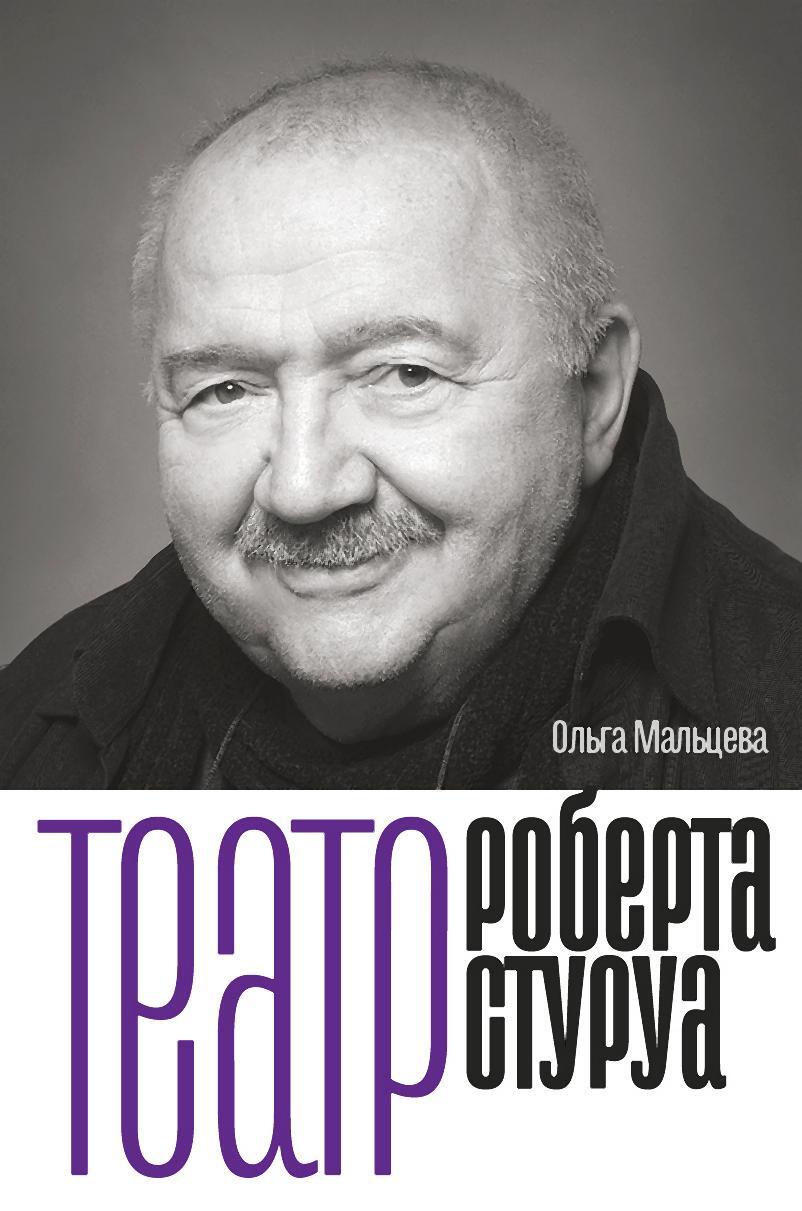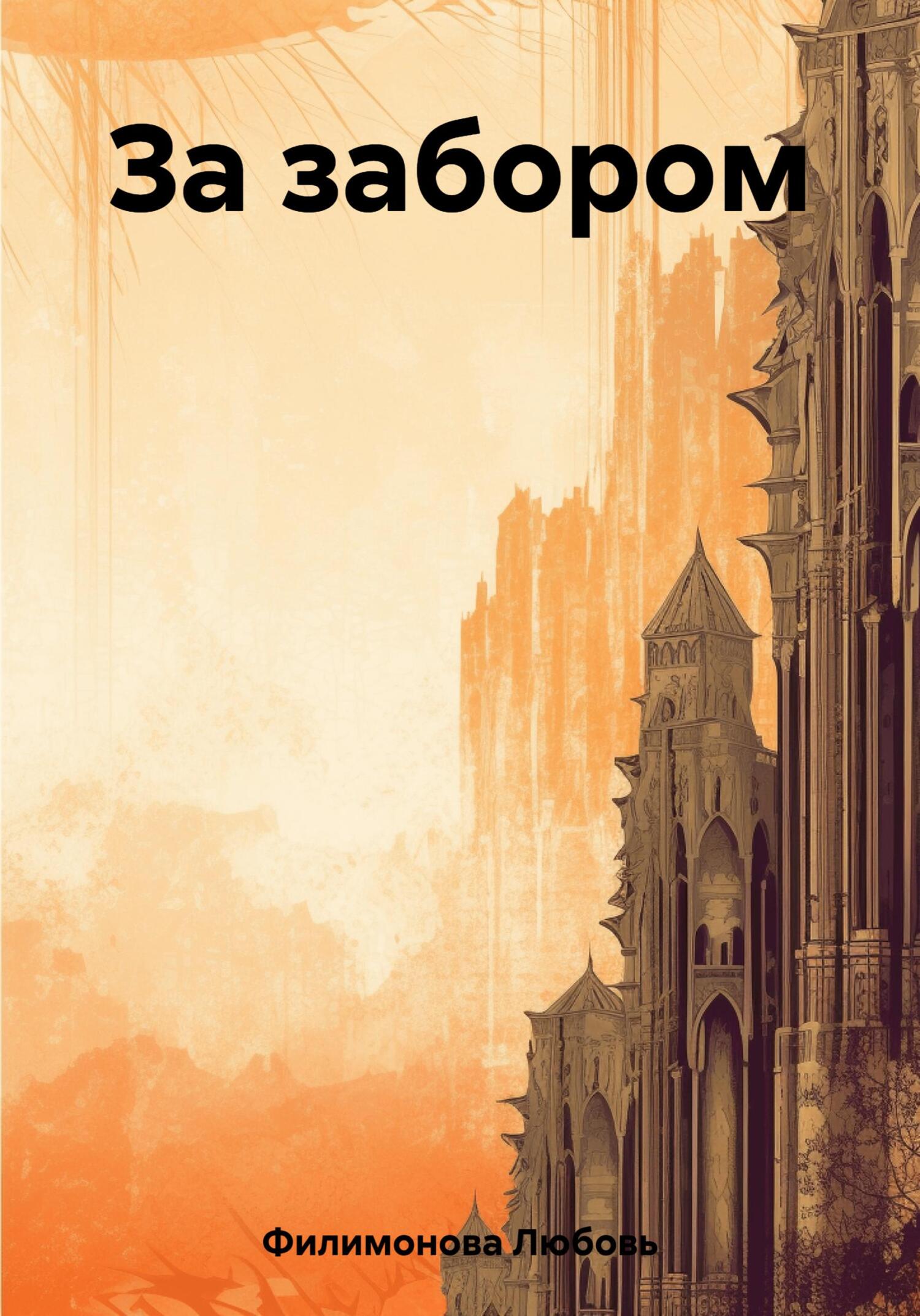Шрифт:
Закладка:
Константин Алексеевич Коровин (1861—1939) – «русский импрессионист», театральный художник, писатель и мемуарист. Коровин очень разный – не только в своей живописи, но и в прозе. Гомерически смешные приключения друзей-охотников сменяются лиричными историями о любви, городскими зарисовками и рассказами об удивительных повадках зверей. Отдельную главу составляют записки о революции 1917 года: это интонация наблюдателя, мирного человека, который изо всех сил пробует понять и принять новое время и – не понимает!Это вторая книга Константина Коровина, изданная в «Захарове». В первую вошли воспоминания о детстве, дореволюционной жизни в России, портреты наставников и друзей, мемуары о Шаляпине, путевые заметки и избранные рассказы.Текст печатается по изданию: Константин Коровин «То было давно… Там в России…»