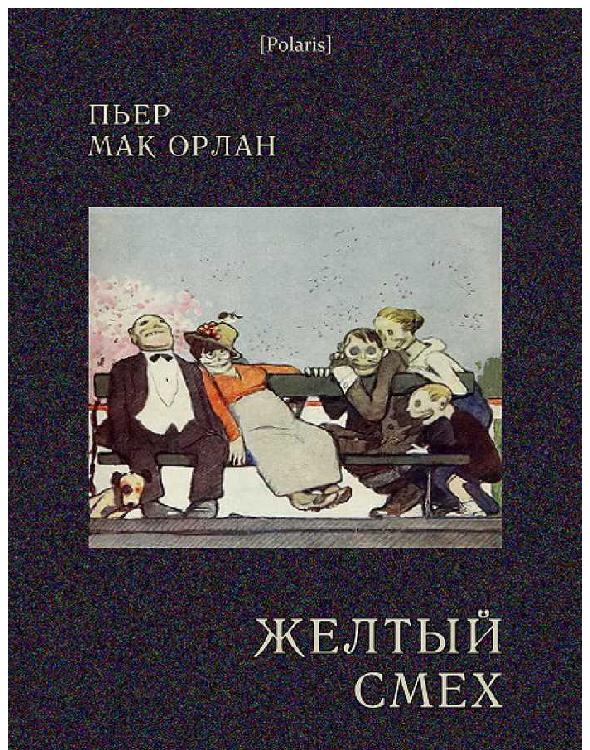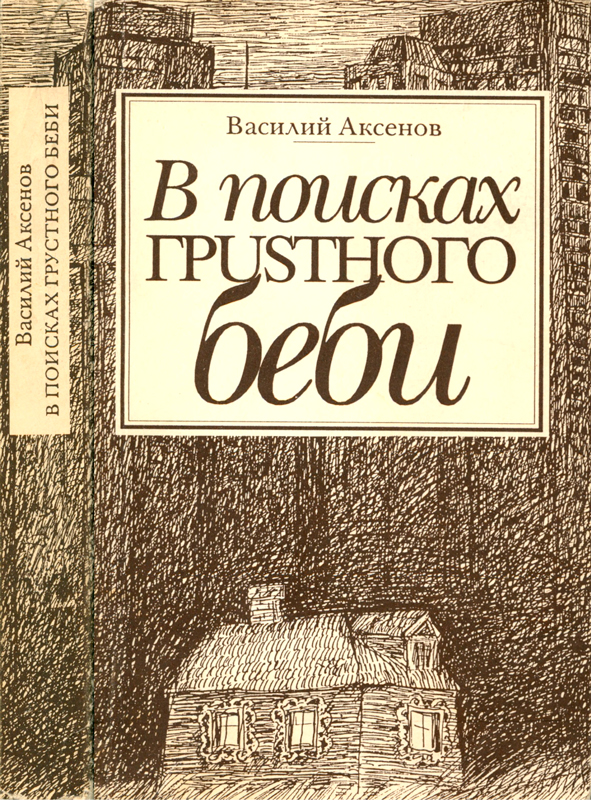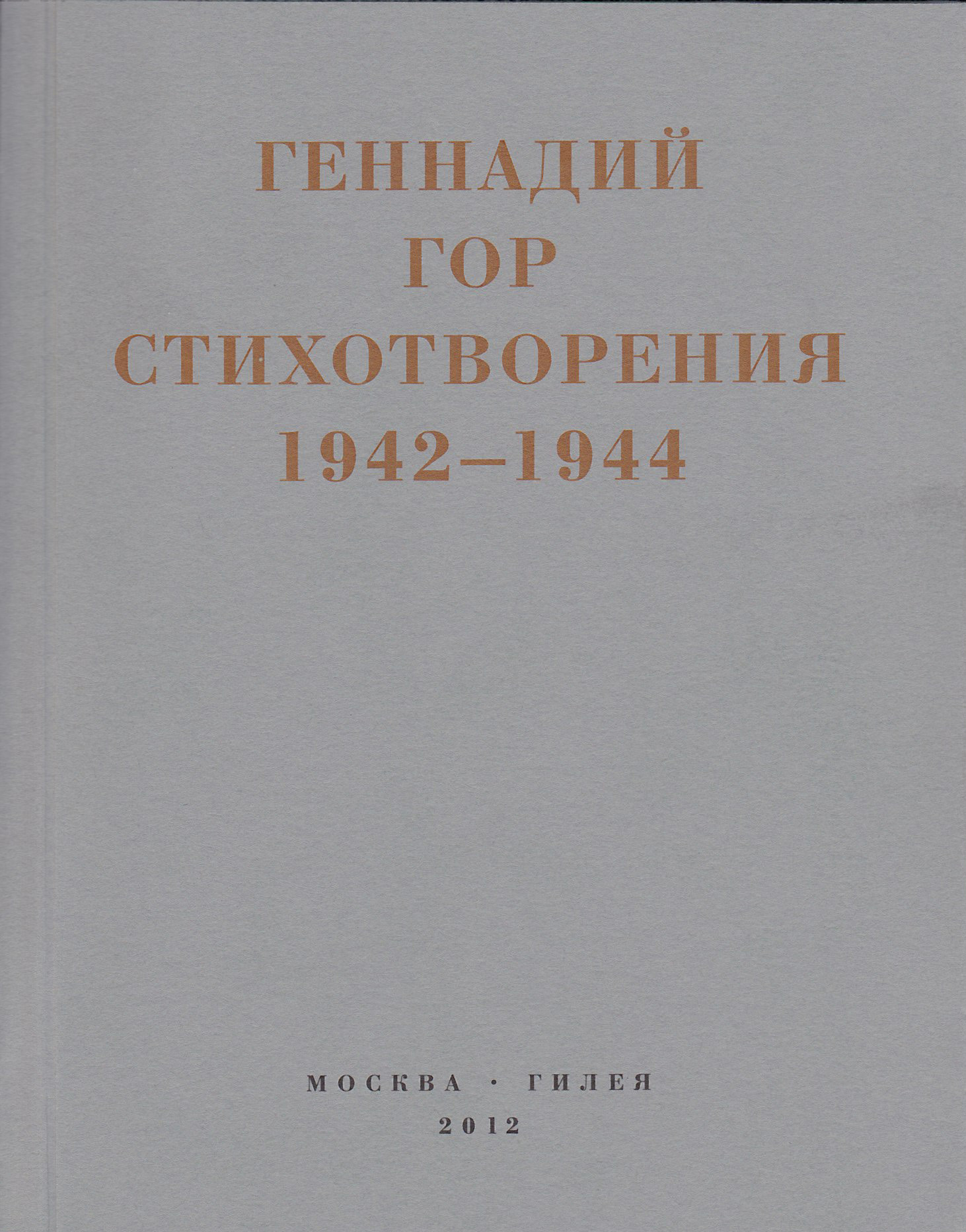Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Желтый смех: Фантастический роман. Пер. с фр. А. Л. Вейнрауб под ред. В. Морица. Предисл. автора. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2021. — 117 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCLXXXIX). Пандемия, пришедшая из Китая, опустошает Старый и Новый свет. Среди полей и развалин деревень и городов, усеянных скелетами, немногие уцелевшие ведут жизнь Робинзонов. Мрачный и одновременно комический роман «Желтый смех» принято относить к «декадентскому» периоду творчества известнейшего французского писателя, поэта и критика П. Мак Орлана (1882–1970). Авторское предисловие было написано Мак Орланом специально для русского издания.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Пьер Мак Орлан»: