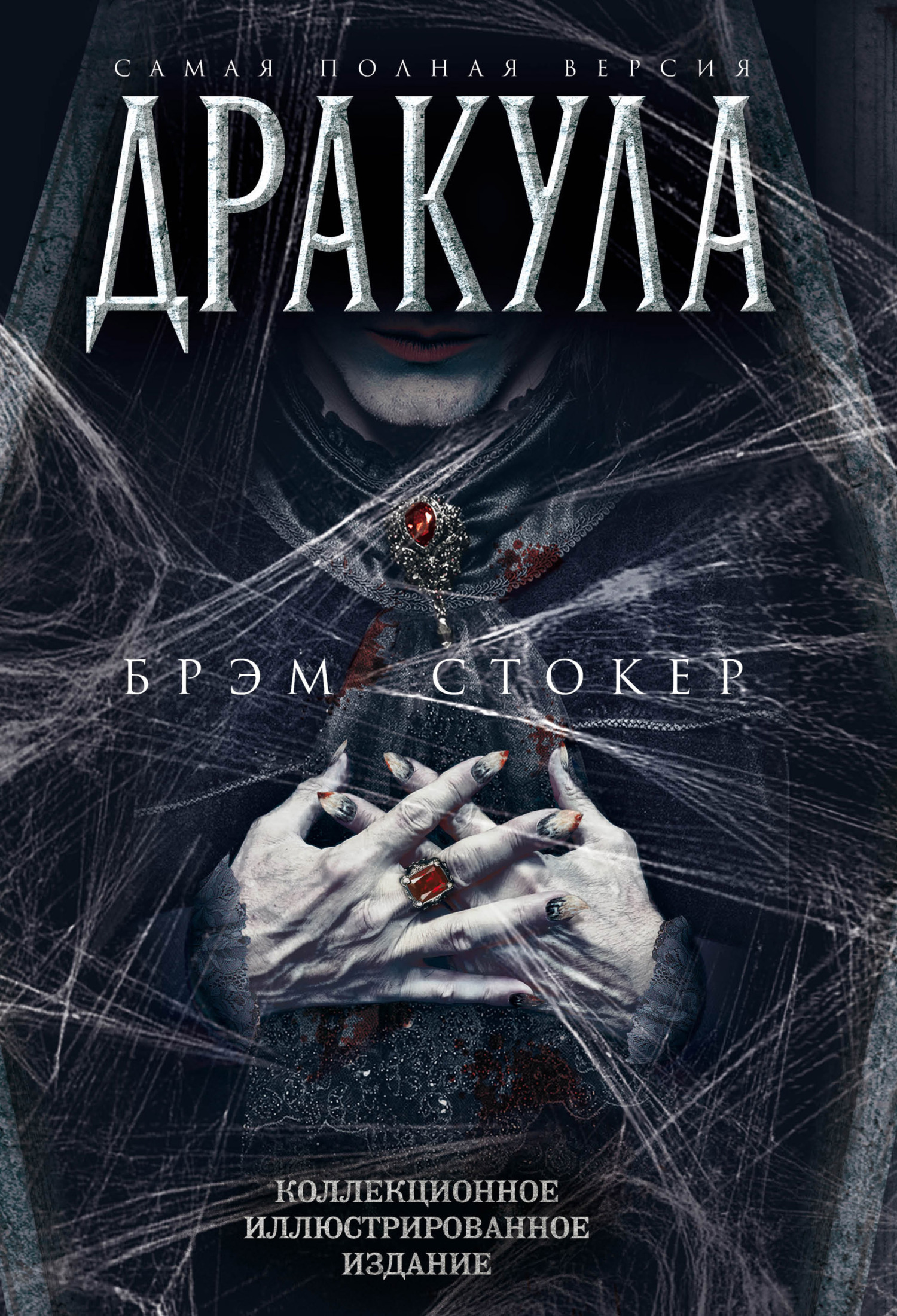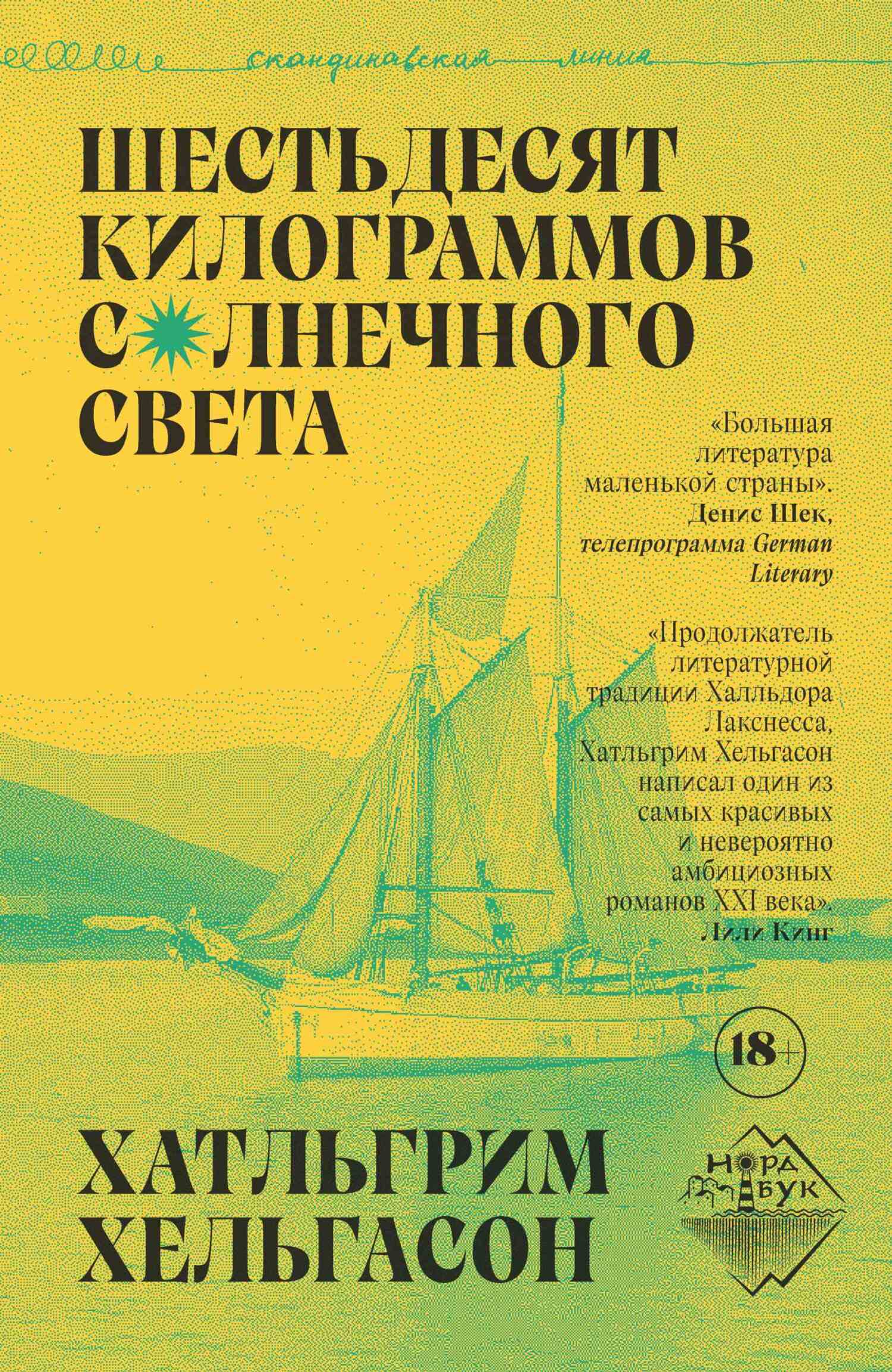Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Любовь после смерти» – сборник готических историй XIX века о вампирах. Увлекательный сюжет, яркие характеры, приятный ужас и капелька отменного юмора.В книгу вошли рассказы Джона Полидори, Фрэнсиса Кроуфорда, Хьюма Нисбета и Брэма Стокера.Издание понравится всем любителям вампиров, а также романов «Дракула», «Кармилла», «Академия вампиров», «Интервью с вампиром», «Сумерки», «Красавица» и «Жажда».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Брэм Стокер»: