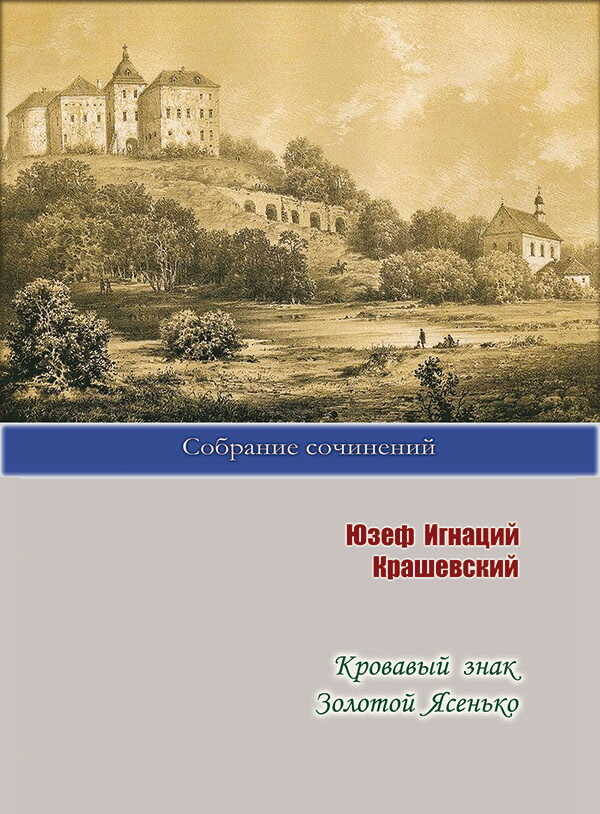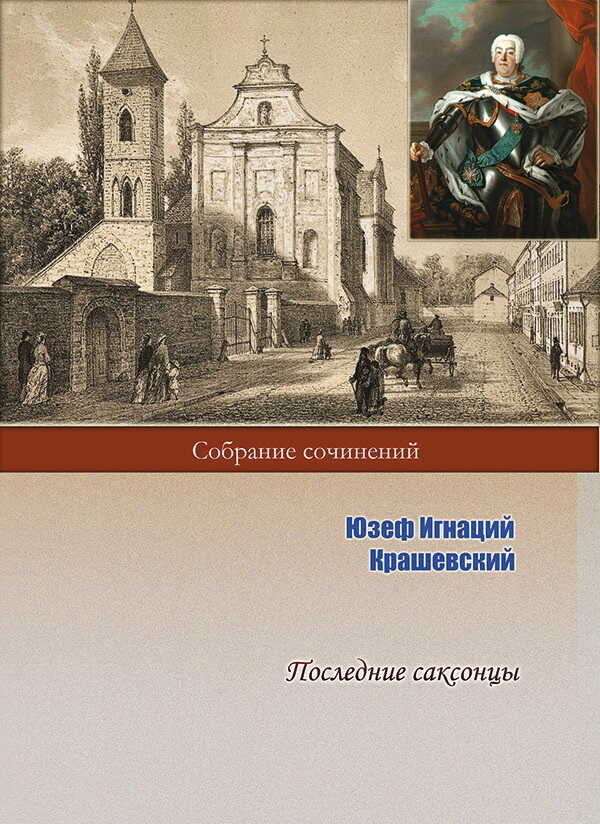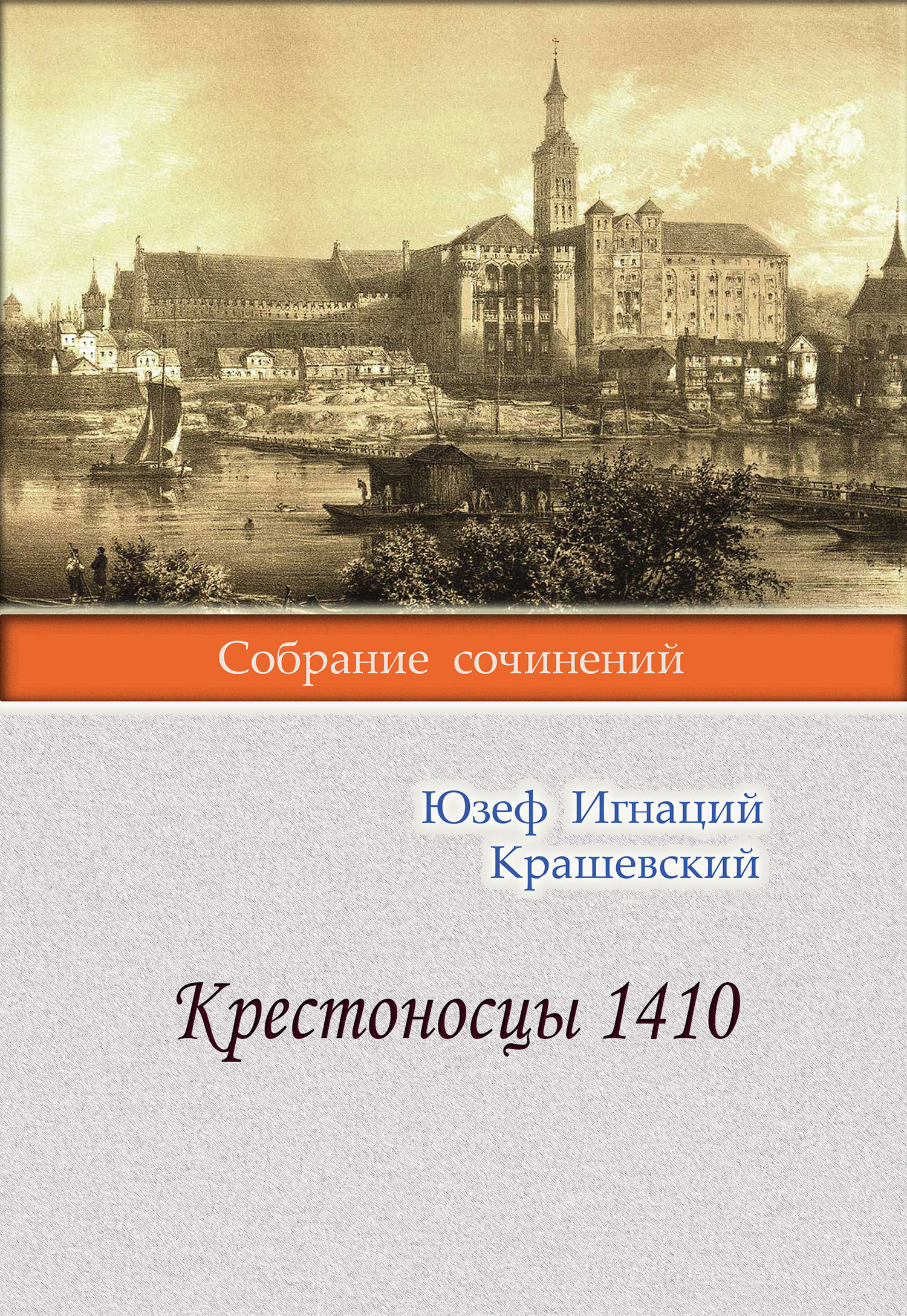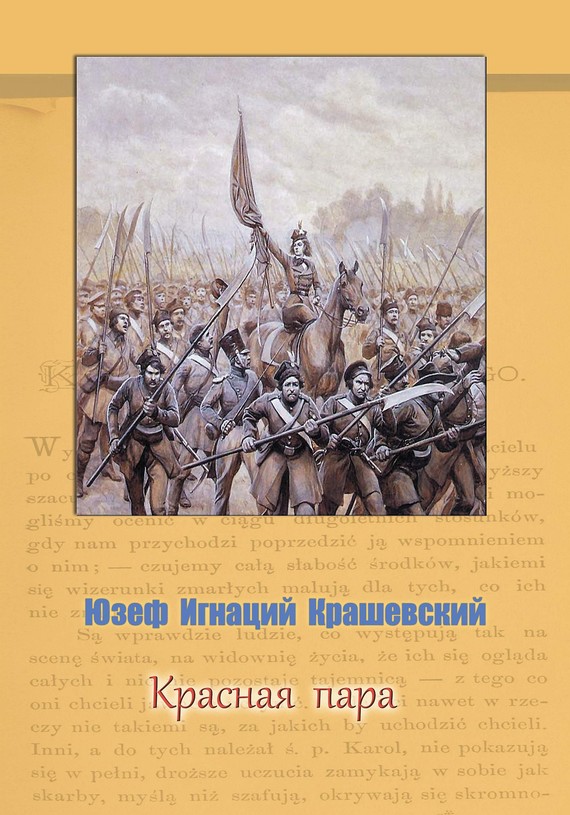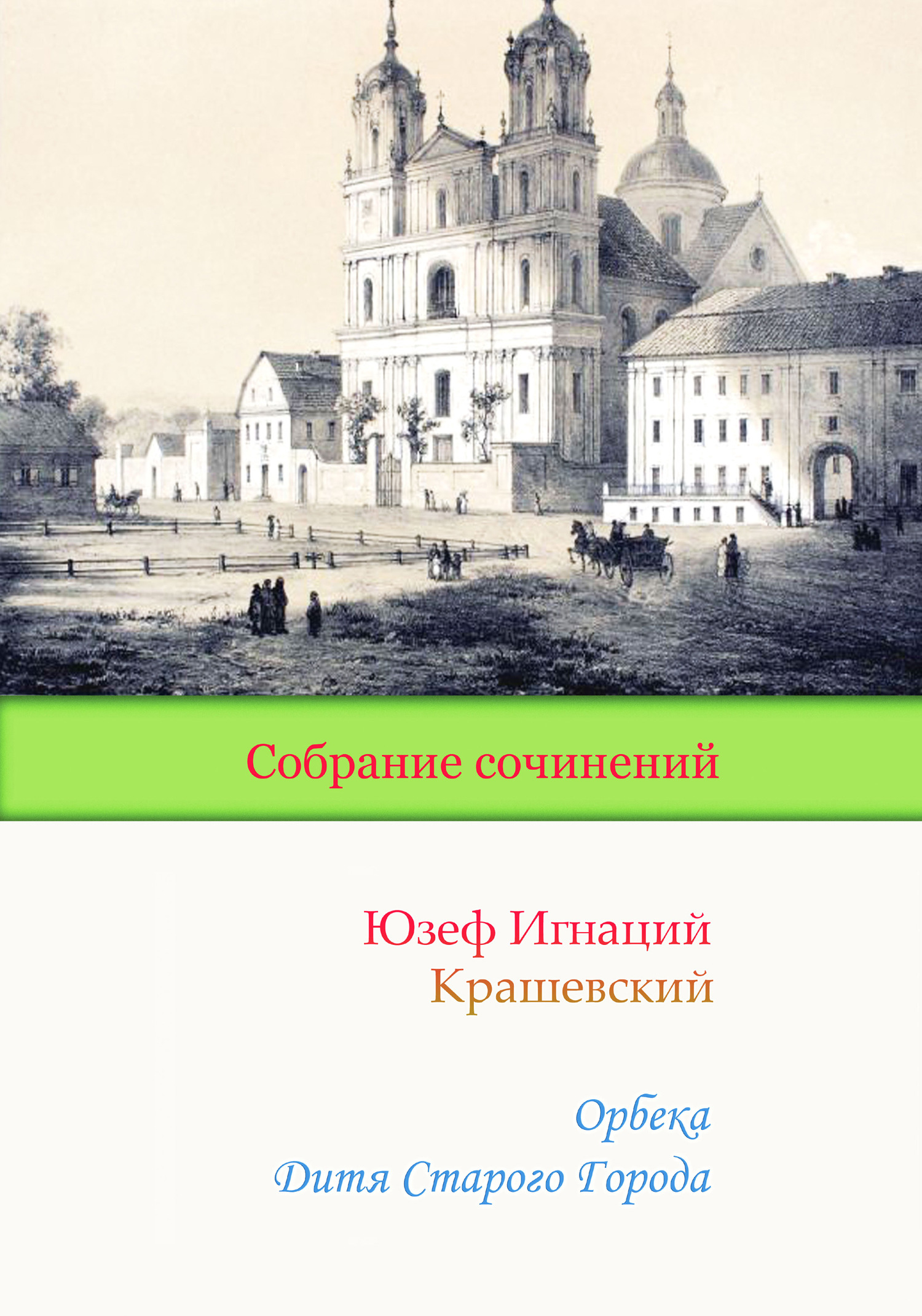Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В историческом романе «Варшава в 1794 году» автор обращается к эпохе восстания Костюшки. Главный герой романа, капитан Сируц, он же рассказчик и участник восстания, день за днём описывает события 1794 года, такими, какими они были в Варшаве. Также немалое место занимает любовь.Роман «Елита» является 13 романом из исторической серии Крашевского «История Польши». Он рассказывает о последних годах правления Владислава Локотка, о предательстве Наленчей и битве с крестоносцами при Пловцах.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юзеф Игнаций Крашевский»: