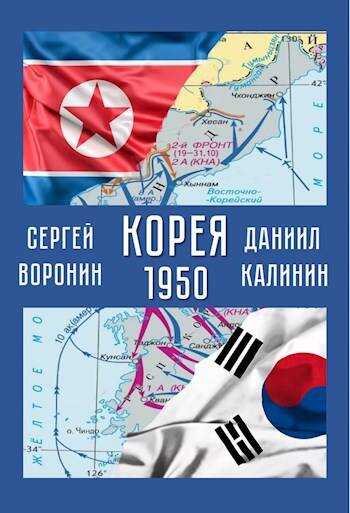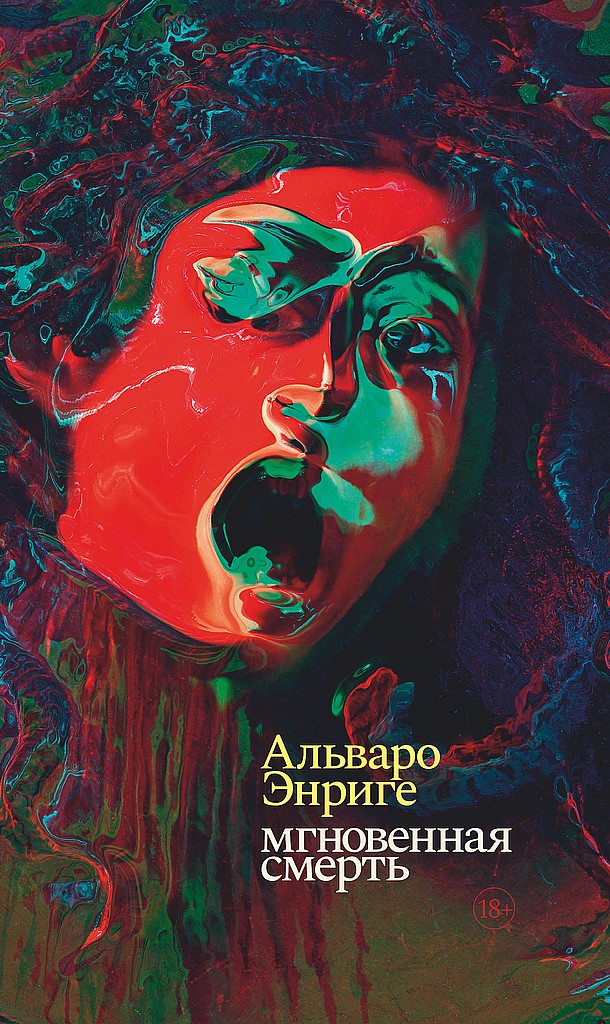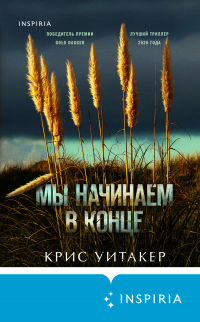Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Первый роман о Никите Мещерякове, приквел «Выбора чести» и «Лесных призраков», признанный лучшим в трилогии.…Возможно, вы знаете о его судьбе – схватки с немцами во Франции 40-го, подготовка в «Бранденбург 800»; знаете, какой Мещеряков сделал выбор между местью и честью. Возможно, вы знаете о боях в Белоруссии – но вам ещё многое неизвестно… О схватках на тотализаторе и конфликте с мафией, о встрече с дроздовцами и боевом крещении в Испании…Вам понравилось продолжение? Этот роман для вас!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Даниил Сергеевич Калинин»: