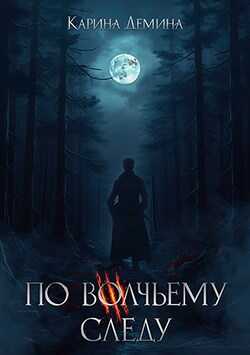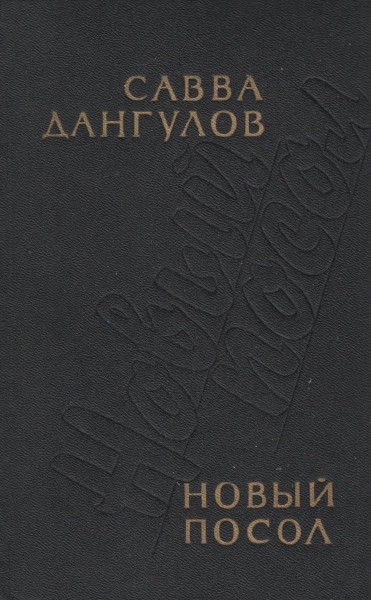Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Пропали невесты? Очнулось от тысячелетней спячки древнее Зло, некогда почти уничтожившее мир? И Проклятый город готов принять гостей? Пускай. Повелитель Тьмы готов ко встрече и с городом, и с древним Злом, и даже с невестами. К чему не готов? Так к тому, что подвиги подвигами, а свадьба свадьбой. Чья? А тут уж как кому повезет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Екатерина Лесина»: