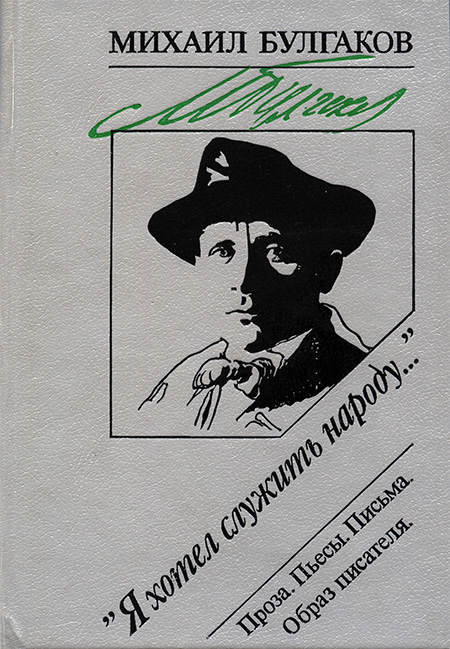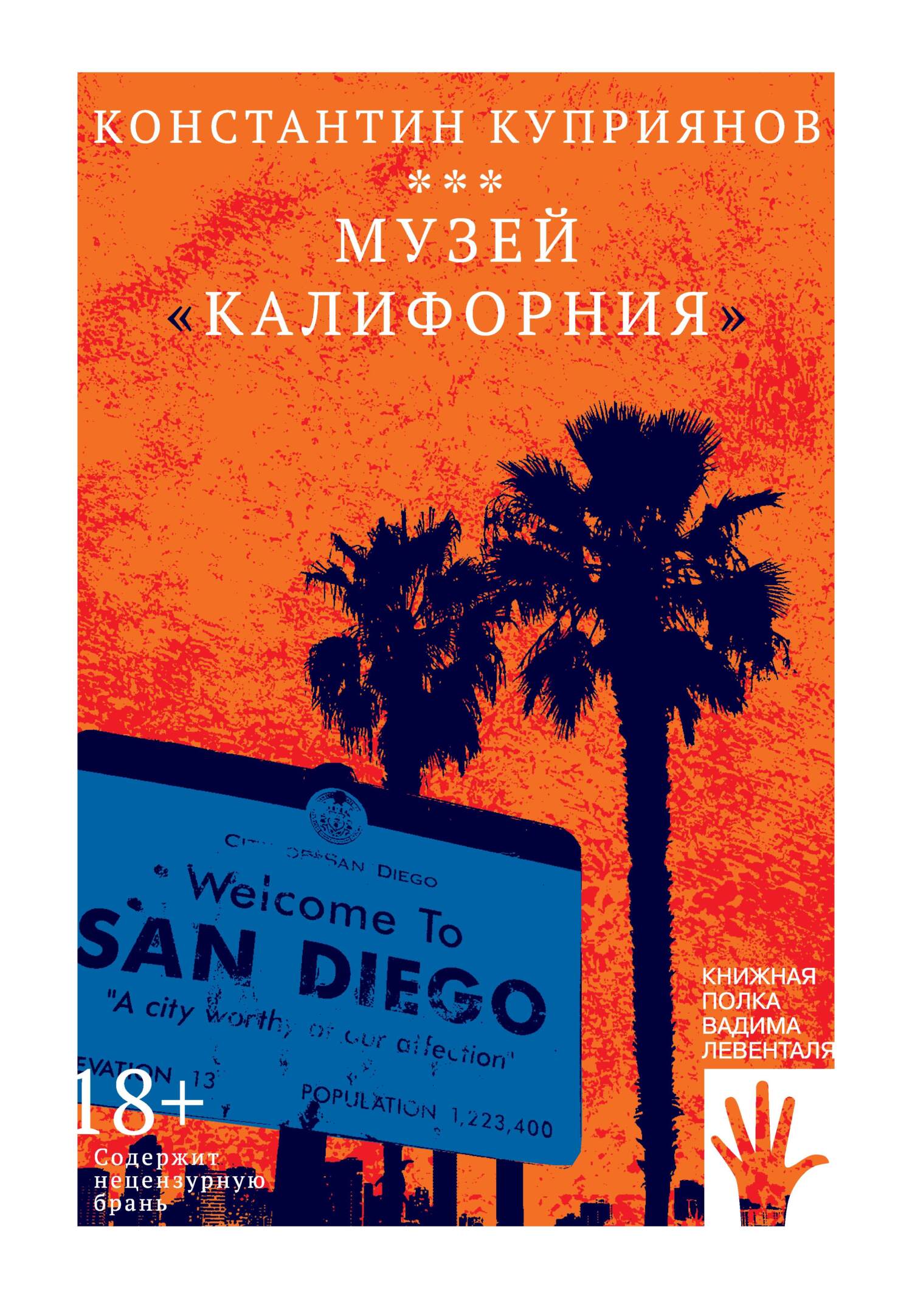Шрифт:
Закладка:
Книга воспоминаний Любови Евгеньевны Белозерской-Булгаковой – писательницы и литературного деятеля, второй жены Михаила Афанасьевича Булгакова, – это уникальный текст, написанный хорошим литературным слогом с увлекательной интонацией, полный обаяния автора, доброго юмора, метких замечаний и с теплом описанных портретов близких и родных людей.В нее входят три произведения: «У чужого порога» рассказывает о вынужденной эмиграции Любови Евгеньевы в Константинополе, Берлине и Париже, именно эти воспоминания и послужили для Михаила Афанасьевича Булгакова источником вдохновения при написании пьесы «Бег»; «О, мед воспоминаний…» – самые большие по своему объему, нежные и полные любви воспоминания о жизни с Михаилом Булгаковым (частично под названием «Страницы жизни» были изданы в сборнике «Воспоминания о Булгакове» в 1988 году); «Так было…» – воспоминания о работе с известным советским ученым, историком Евгением Викторовичем Тарле. Книга также содержит очерк жизни Любови Евгеньевны Белозерской-Булгаковой, написанный ее племянником Игорем Владимировичем Белозерским.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.