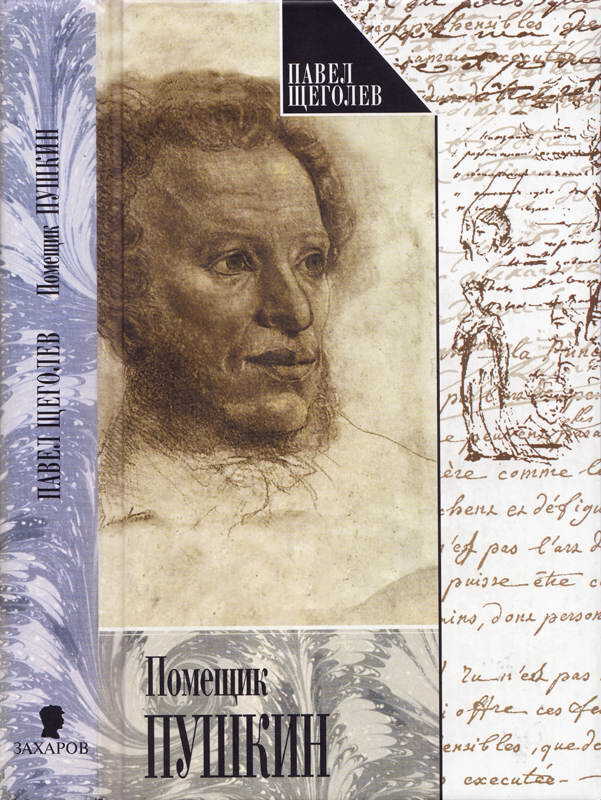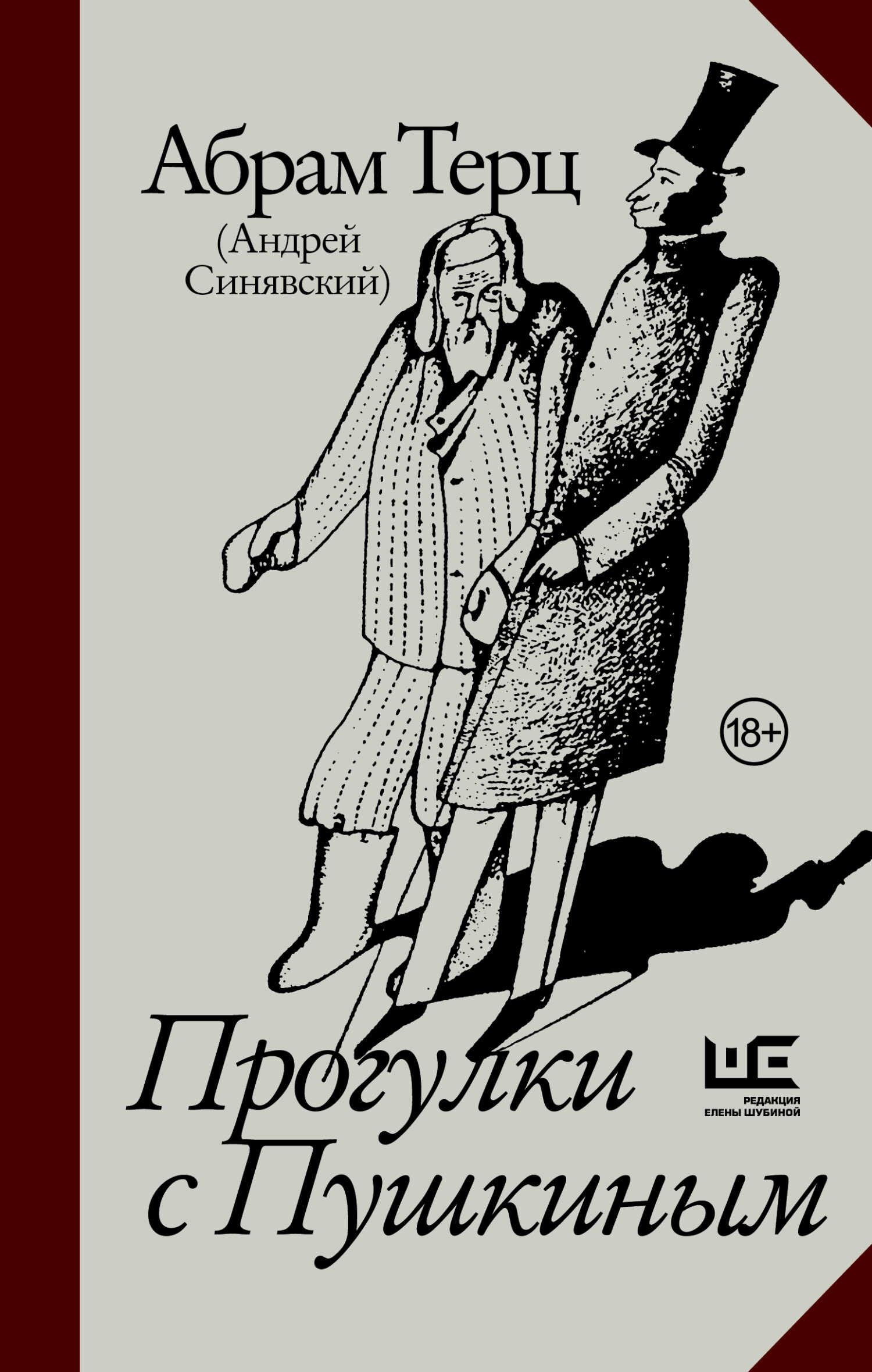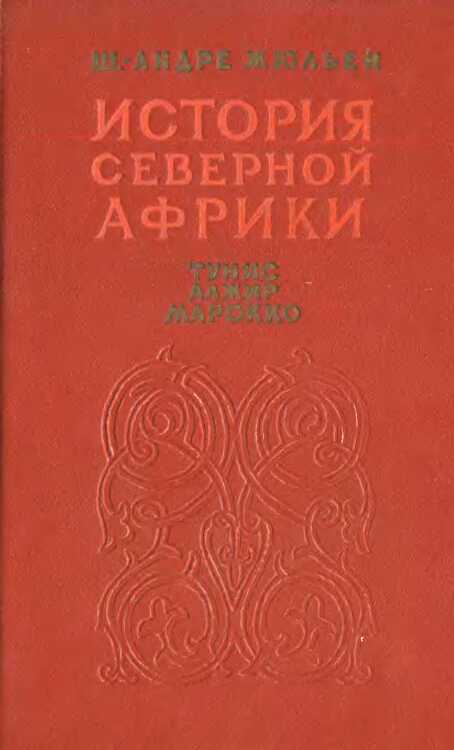Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Павел Алексеевич Щеголев (1877–1931) — известный историк русской культуры и литературы, пушкинист, издатель и публицист, автор более 600 работ, от серьезных монографий до оперного либретто и, совместно с А. Н. Толстым, «Дневника Вырубовой». Здесь собраны самые интересные работы Щеголева о Пушкине, причем публикуются тексты не в поздних вариантах, зачастую конъюнктурно отредактированных автором в угоду «марксистским позициям», а по первым публикациям.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Павел Елисеевич Щеголев»: