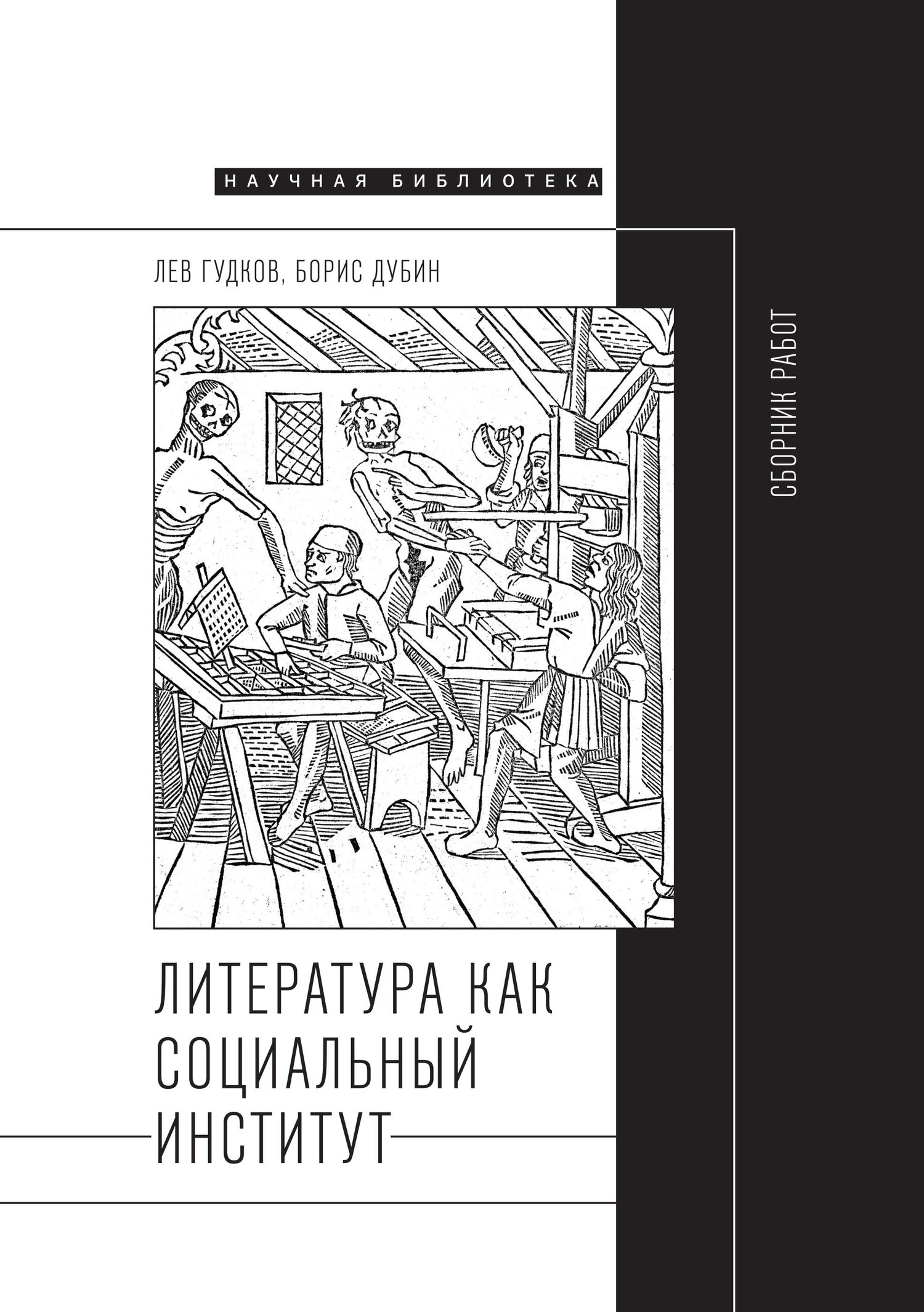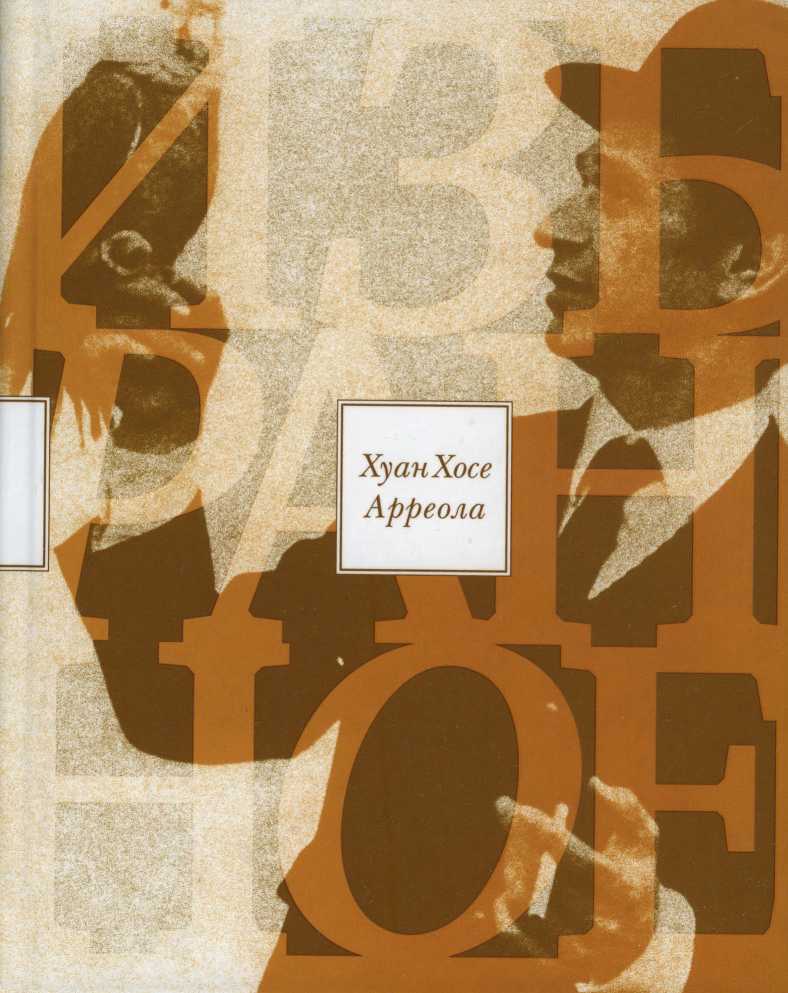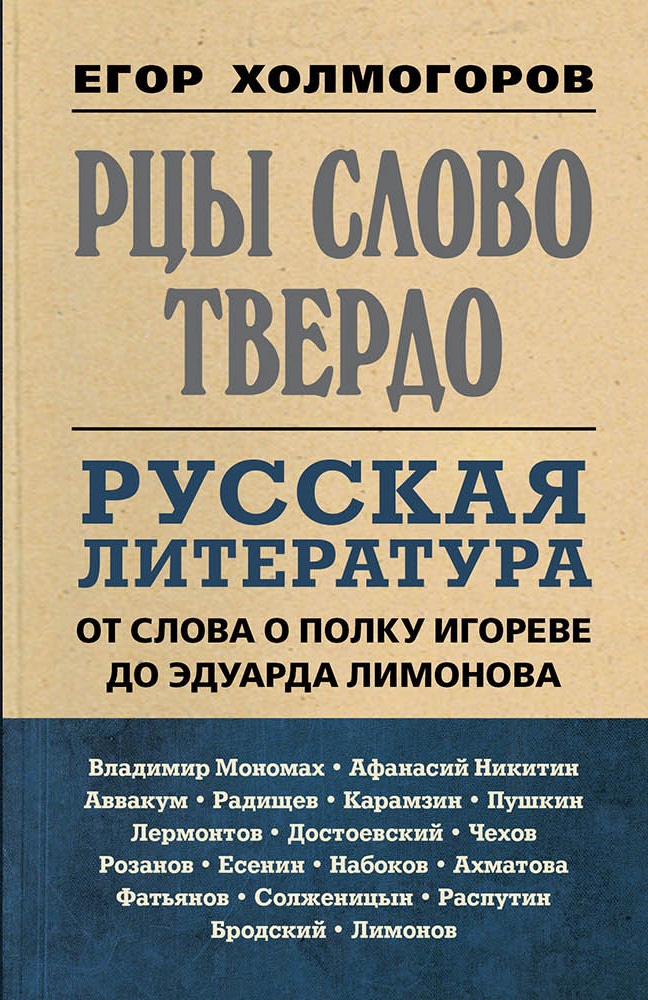Шрифт:
Закладка:
Книга состоит из шести относительно независимых эссе, объединенных общим замыслом. Это — серия расследований, посвященных неизвестным аспектам творческой деятельности известных мастеров: писателей, историков, художников. Почему Пушкина, желавшего практически реализовать выгодный коммерческий проект, постигла неудача? Как ответить на загадку, которую загадал зрителям Н. Н. Ге в картине «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы»? Почему современники не смогли разгадать секрет этой картины, которая в настоящий момент хранится в фондах ГПТ и до сих пор не экспонируется? Какую роль играла комнатная собачка в любовном быте XVIII столетия и каким образом с помощью произведений литературы и живописи можно ответить на этот неожиданный вопрос?