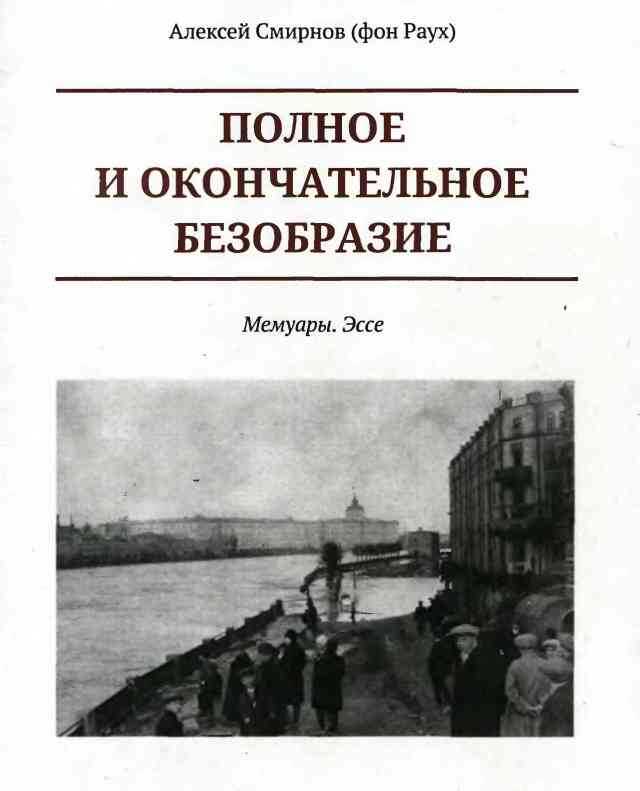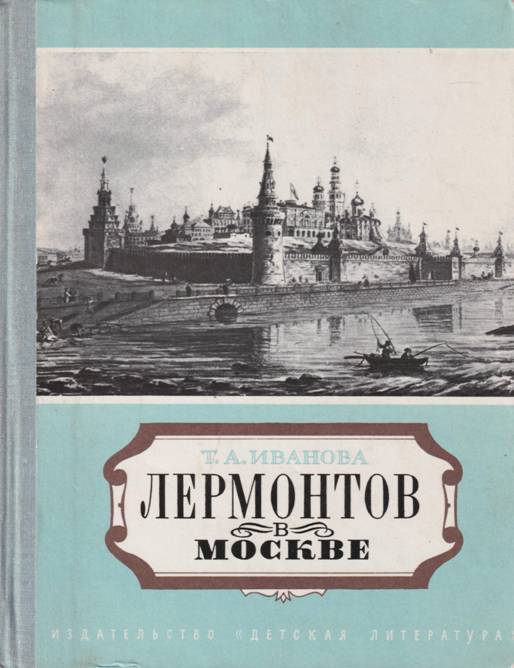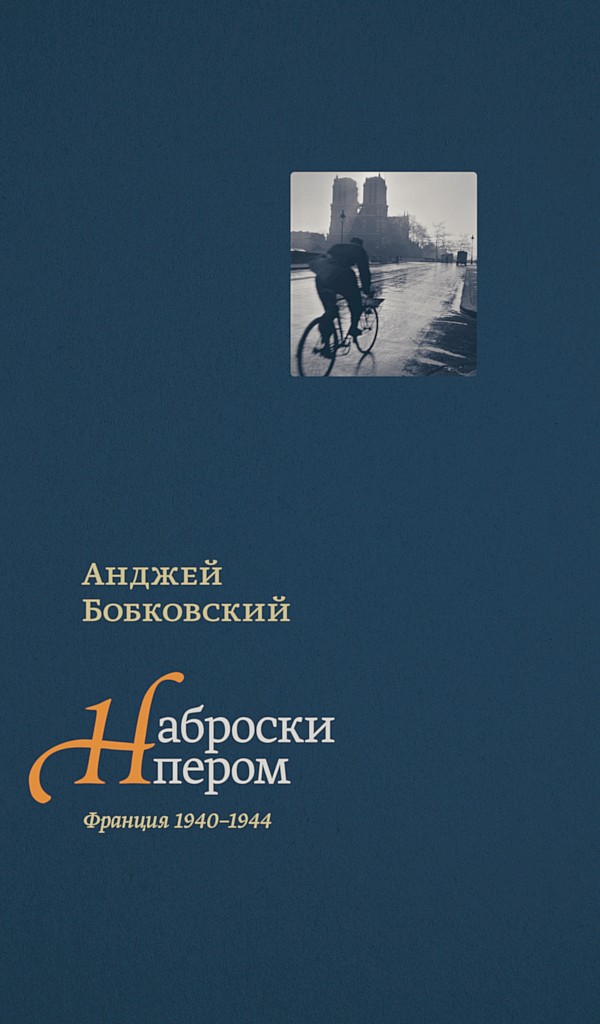Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга содержит мемуары и эссеистику Алексея Смирнова (1937–2009), московского художника, иконописца, писателя и публициста, участника Второго русского авангарда.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Глебович Смирнов (фон Раух)»: