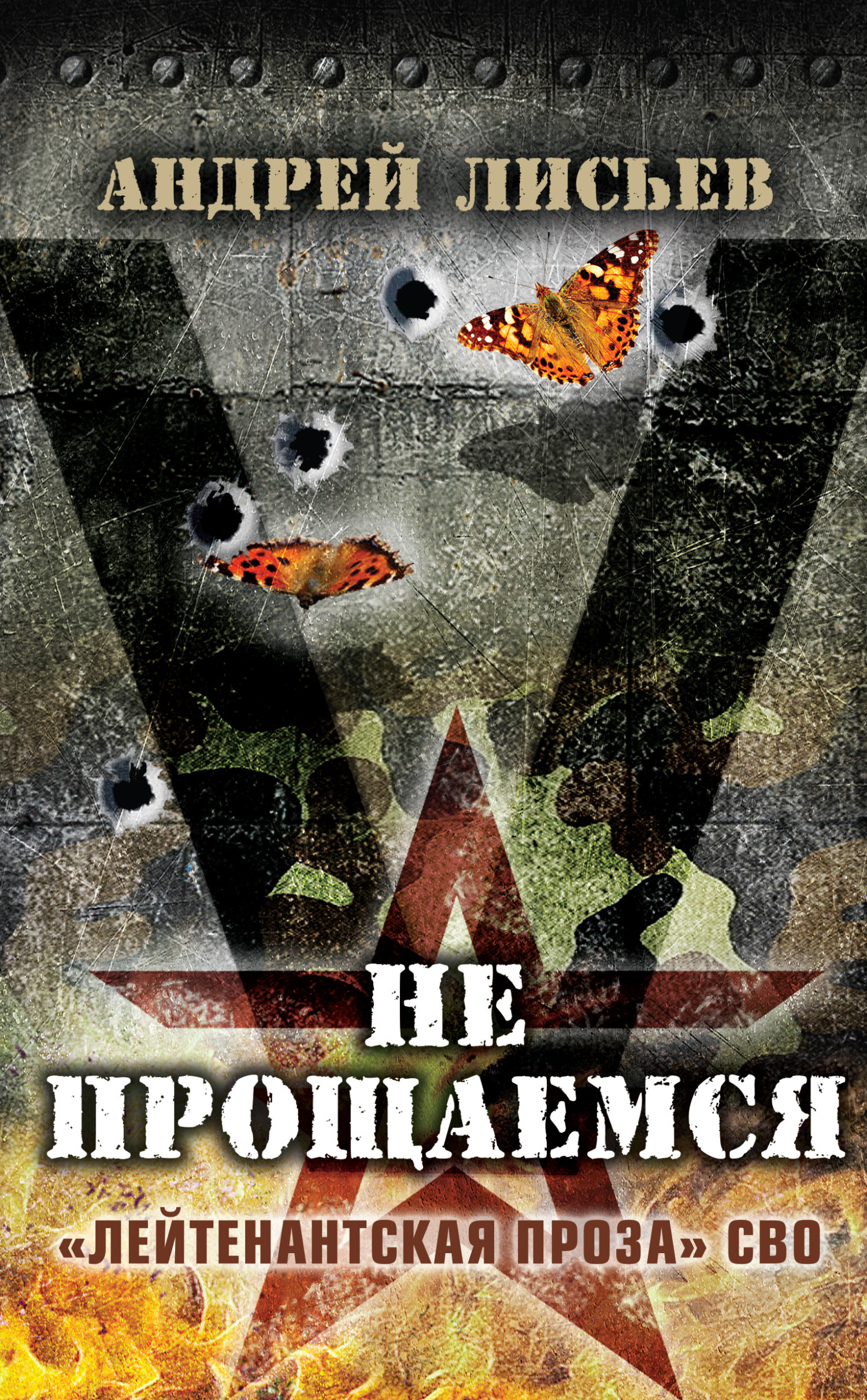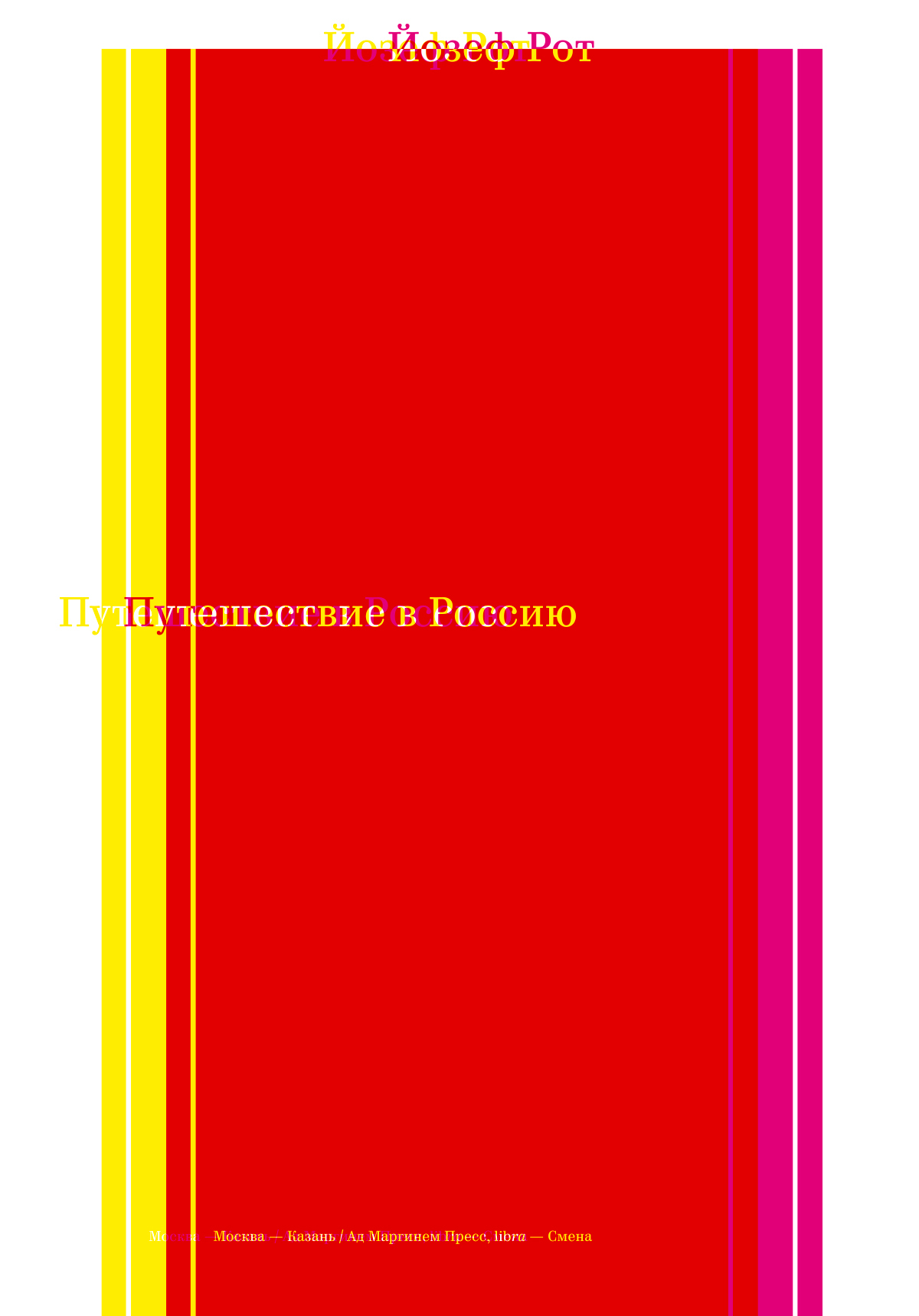Шрифт:
Закладка:
«Нас время учило…» – удивительно искренние воспоминания о войне, написанные скульптором Львом Разумовским. Попав на фронт семнадцатилетним мальчишкой, в июле 1944 года он был ранен и потерял руку. Однако случившаяся трагедия не сломила этого сильного духом человека – он не только научился обходиться без посторонней помощи в быту, но и продолжил заниматься творчеством. Сегодня его скульптуры находятся в лучших музеях и частных коллекциях России, Финляндии, Швеции, Великобритании, Канады, США, а игрушки, созданные по его эскизам, знают и любят многие поколения детей. Все эпизоды этой книги – подлинные, а фамилии настоящие. Читатель проходит военный путь Льва Разумовского, почти физически ощущая атмосферу в казарме, узнает, что чувствует человек, попавший под минометный обстрел в болоте. Правда никогда не дается легко, но именно эти подробности жизни военных лет делают «Нас время учило…» одной из самых правдивых книг о войне, свободных от табуированных тем.