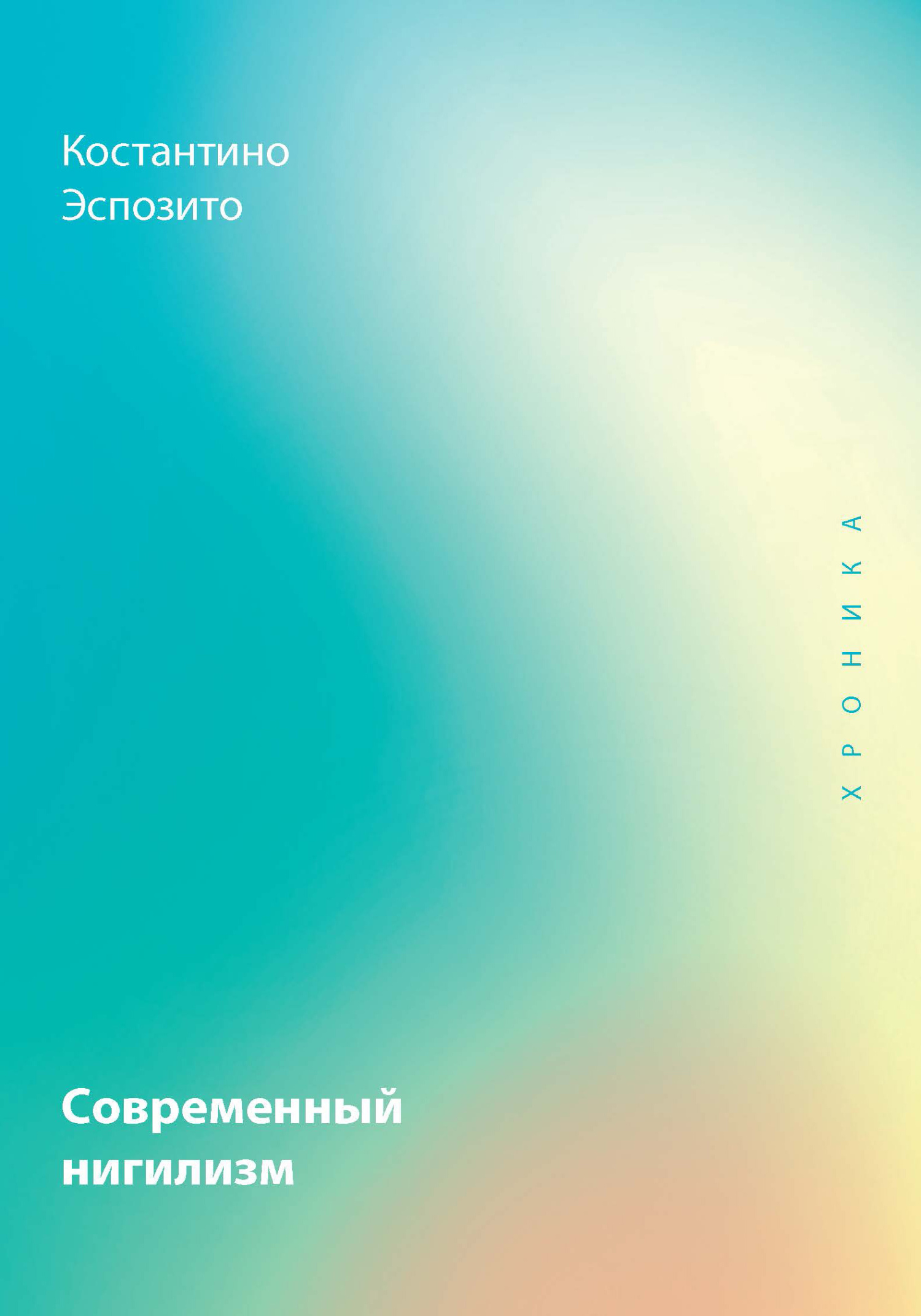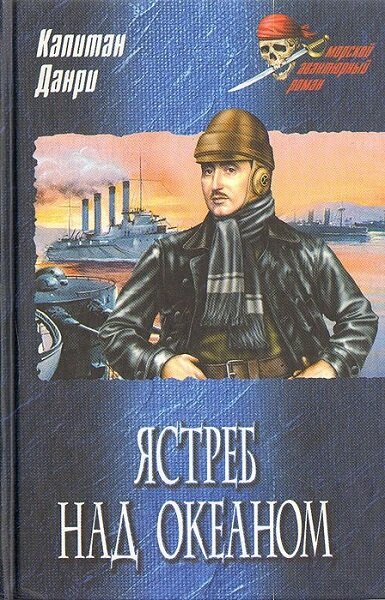Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Философы далеко не всегда учат хорошему. Было немало философов, говоривших о страстном наслаждении и черном отчаянии. Они не систематизировали моральные уроки, а напротив, постоянно провоцировали читателей, выбивали из колеи. Они не стремились к чистоте философского жанра, напротив, пускали в философию любые призраки, страхи и кошмары. Ужас и отчаяние, неудержимое желание и продуманный эгоизм, притворство и сладострастие, измены и возбуждающая изнанка нашей жизни – вот содержание этих философских сочинений. Эти философы смело показывают нам те идеи и намерения, которых мы стыдимся и пытаемся скрыть. Мы перед ними как на ладони, и они – наши самые злые учителя!В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Викторович Марков»: