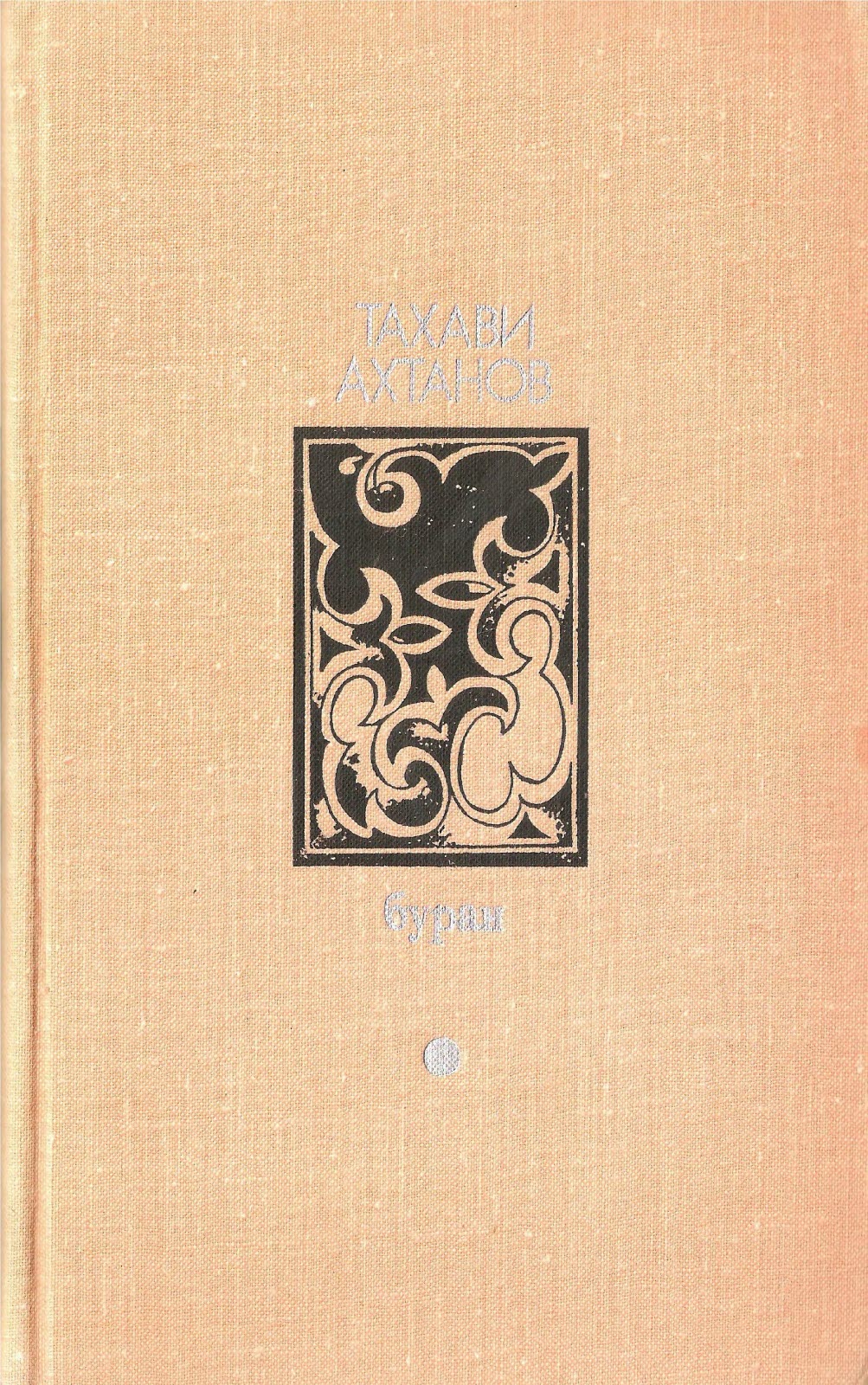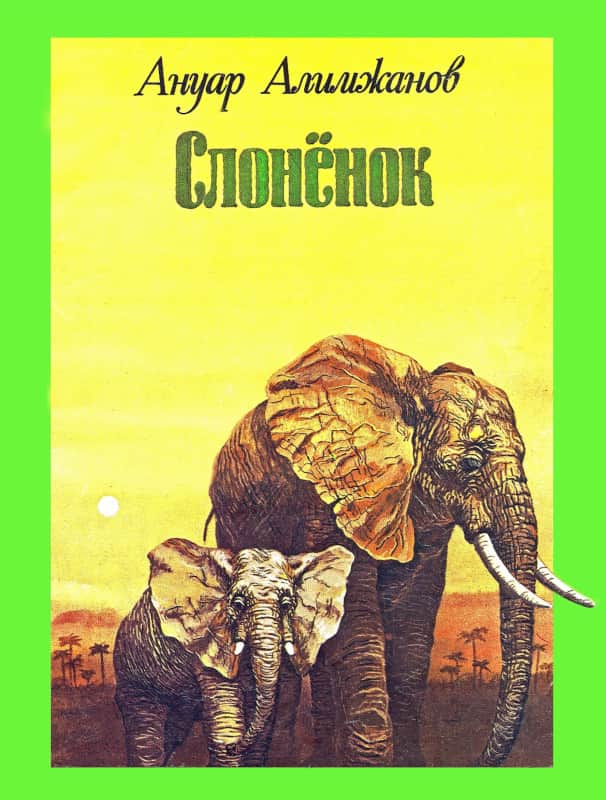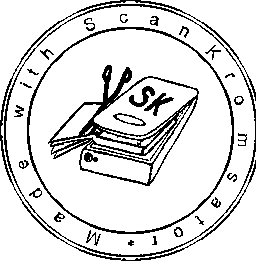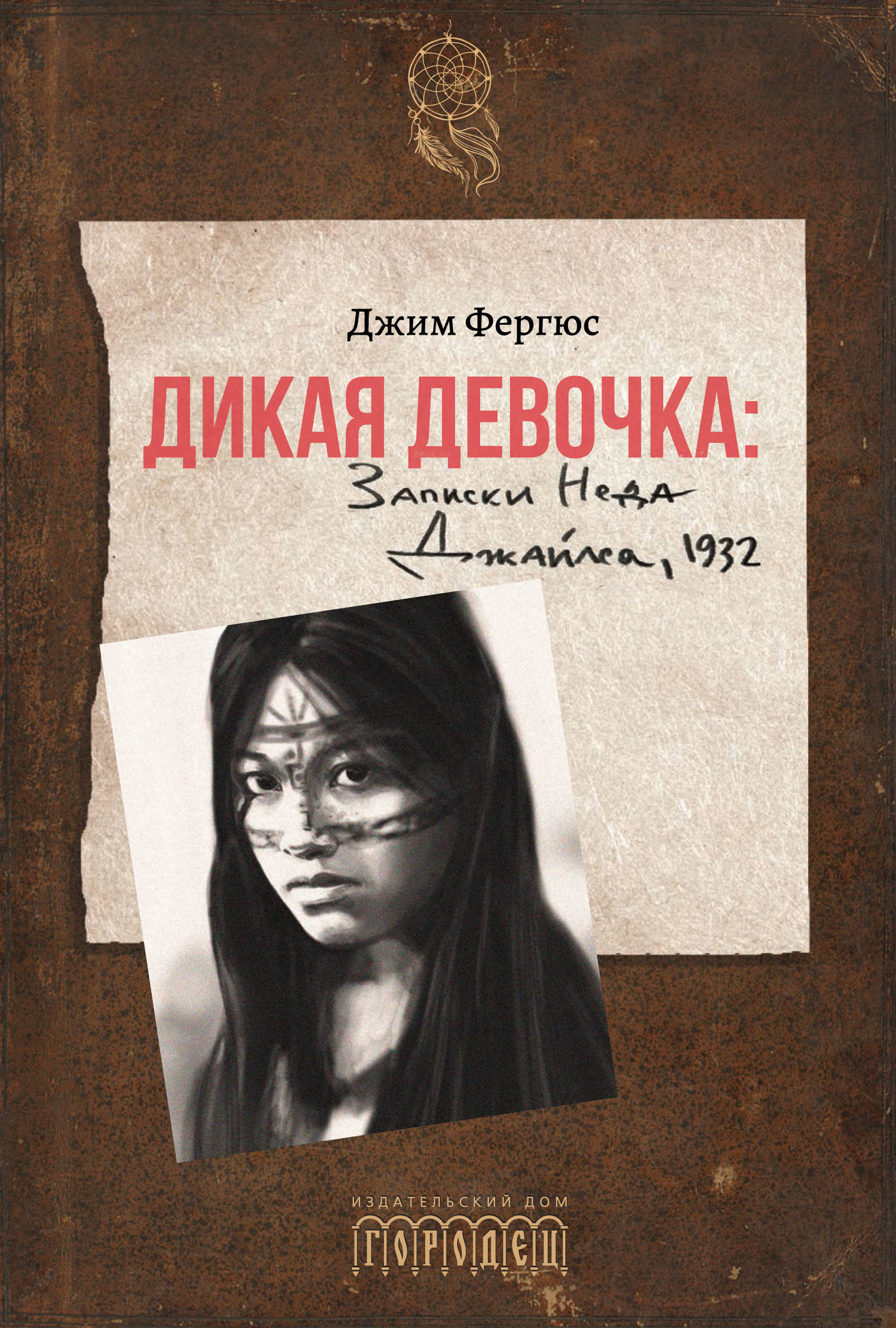Шрифт:
Закладка:
Издательская аннотация отсутствует. _____ Роман «Буран» казахского писателя Тахави Ахтанова удостоен в 1966 году Государственной премии Казахской ССР имени Абая. За внешне несложным сюжетом, за простотой облика главного героя — и важные события эпохи, и глубокое, тонкое проникновение в духовный мир человека. Роман «Буран» — одно из значительных достижений казахской прозы в области психологического романа. Активно работает Т. Ахтанов и как драматург. Им написано около десяти пьес. Одно из произведений Ахтанова в этом жанре — драматическая поэма «Клятва». В этом произведении писатель обращается к событиям сложного и очень важного в казахской истории периода — начала XVIII века. Taxaви Ахтанов — автор большого количества критических и литературоведческих работ. В 1972 году вышли написанные в беллетризованной форме путевые очерки Т. Ахтанова «Индийская повесть». Критика справедливо отметила особенность художественной манеры писателя в этом произведении. Он не просто описывает и дает социальный анализ увиденного — в его очерках чувствуется большая эмоциональная сила, гражданская взволнованность. Поэтому «Индийская повесть» воспринимается как художественное произведение.